Карлсон прекрасен не просто своим цинизмом. Карлсон прекрасен удивительно трезвым для сказочного персонажа отношением к действительности. И может быть, детский изначальный цинизм можно прошибить только цинизмом Карлсона. Когда кроткий и добрый Малыш говорит: «А вдруг ты меня уронишь?» – Карлсон ничуть не смутился: «Велика беда! – воскликнул он. – Ведь на свете столько детей. Одним мальчиком больше, одним меньше – пустяки, дело житейское!» Вот на это ребенок может повестись. А если бы Карлсон сказал: «Не бойся, дорогой, я тебя удержу своими пухлыми ручками», – Малыш, наверное, трижды бы подумал. А тут это знамение некоторой силы, некоторой уверенности. Карлсон вообще всегда разговаривает с позиции силы, и в этом для нас немало интересного.
Особенно интересно, что Карлсон, который, по сути дела, обладает массой неприятных черт, в рамках XX века оказывается существом хотя и, безусловно, демоническим, но спасительным, необходимым. Это легко пояснить, просто проследив, откуда он взялся. Сначала, когда его еще звали Лильян Кваст (это придумала дочка Астрид Линдгрен, болея), мистер Швабра, господин Швабра, он был еще не летающим или, во всяком случае, еще без пропеллера существом, которое приходило навещать больного мальчика. Мальчик был прикован к постели, господин Швабра уводил больного ребенка в волшебную страну. От всего лексикона Карлсона у него была только одна фраза: «Спокойствие, только спокойствие. Ничто не имеет значения в мире между светом и тьмой».
Астрид Линдгрен очень мало могла рассказать о том, как она пишет, о том, как приходят к ней мысли. Более того, она, как истинный Малыш, всегда старалась все свалить на других. Она говорила: «Да ну, это не я придумала Карлсона. И больше того, не я придумала Пеппи. Просто Карен болела». «А как вообще Карлсон появился?» – бесконечно спрашивали ее. «Ну как появился… Сижу как-то у окна, мечтаю. Вдруг слышу жужжание. Влетает маленький толстый человечек и спрашивает, не здесь ли живет Малыш. Я подробно ему указала, где живет Малыш, и больше он меня не беспокоил». Кстати говоря, когда Карлсон возник как легенда, дети в Стокгольме стали интенсивно лазить по крышам в поисках его домика. В общем, Линдгрен, как истинная социалистка, всегда верила в силу литературы, и тут она в ней убедилась наглядно. Пришлось ей сказать, что домик Карлсона имеет вполне конкретный адрес (улица Вулканусгатан, 12, где когда-то проходил ее медовый месяц, первая счастливая пора брачной жизни), но увидеть его может не каждый, и вообще, лазить туда не надо. Вот когда Карлсон сам за вами прилетит, тогда он вас туда и отведет.
Когда в 1983 году я приехал в Международный лагерь мира в Швеции, мы все, тогдашние советские начитанные дети, естественно, потребовали отвести нас на эту улицу. Нам честно рассказали, что эпидемия «крышелазания» и «карлсоноискания» никуда не делась и дети весенними вечерами продолжают устремляться в Васастан, чтобы увидеть крышу, на которой стоит маленький домик. Понятно, что домика никакого нет, он давно в музее Астрид Линдгрен, но каждый ребенок считает своим долгом говорить, что Карлсон ночами к нему прилетает «на шелко́вые ресницы / Сны золотые навевать…».
Для меня в генезисе этого образа особенно принципиально то, что Карлсон – это потомок героя, живущего «между светом и тьмой». Ведь и Демон лермонтовский пребывает не в аду. Он, как и все демоны, бывший ангел. Он изгнан из рая, но не сослан в ад. Он, в отличие от демонов, описанных европейскими духовидцами, не князь адских легионов, он – летающий без смысла и цели, отринутый, отверженный, несчастный, одинокий, прекрасный и грустный литературный персонаж. Он именно находится между , и эта межеумочность для него мучительна. Главное, что томит Демона, – он не может ни любить, ни ненавидеть, а когда единственный раз полюбил, тут же сам свой объект любви и убил, потому что иначе не может.
Пожалуй, XX век внес в мировую демонологию очень принципиальный момент: все лучшее размещается между светом и тьмой, потому что и свет, и тьма одинаково мучительны и одинаково губительны. Волшебный мир – это не мир добра (вот что особенно принципиально), а это мир вне добра и зла, между добром и злом. Поэтому все самые интересные события в «Дозорах» Сергея Лукьяненко, скажем, разворачиваются в Сумраке. «Всем выйти из сумрака!» И первым из сумрака вылетает Карлсон, естественно. Карлсон – персонаж вне добра и зла.
Монастырь Тамары – это тоже автобиографическая деталь. Ведь Лермонтов большую часть жизни провел все равно что в монастыре – в юнкерском училище, в армии. Это монастырская община, монастырские строгие правила, как бы он ни стремился их нарушить. Все мольбы об отставке разбиваются. Тамара сама просит ее отвезти в монастырь, потому что после гибели жениха не хочет ни за кого замуж. Из этой монастырской среды Демон обещает вывести ее на свободу. Но, по понятиям Лермонтова, эта свобода гибельна, это свобода бездушия. А вот XX век, как это ни странно, как ни парадоксально (и в этом, может быть, главный моральный сдвиг XX века), поместил все чудесное вне добра и зла, наверное, потому, что и добро, и зло в этом веке были одинаково омерзительны. Все сталкивавшиеся в XX веке силы, все этики одинаково убийственны. Нет хорошего хода, нет нравственного поступка. Сдать Францию, пойти на коллаборационистский сговор – отвратительно. Отдать Францию под истребление – еще отвратительнее. Нет моральной правоты, нет моральной санкции ни на один шаг.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
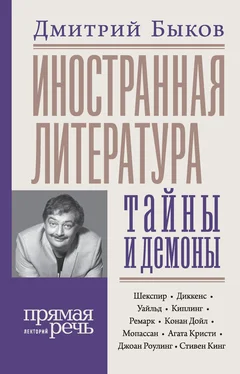


![Чарльз Буковски - Рассказы журнала [Иностранная литература]](/books/82412/charlz-bukovski-rasskazy-zhurnala-inostrannaya-lite-thumb.webp)
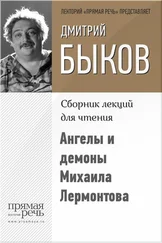


![Тед Хьюз - Новые стихи [Иностранная литература]](/books/218796/ted-hyuz-novye-stihi-inostrannaya-literatura-thumb.webp)
![Дмитрий Быков - Советская литература - мифы и соблазны [litres]](/books/398599/dmitrij-bykov-sovetskaya-literatura-mify-i-soblazn-thumb.webp)



