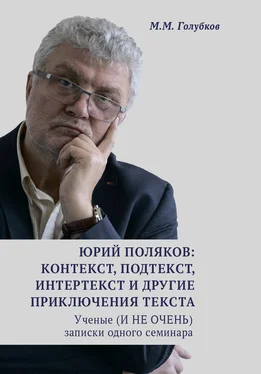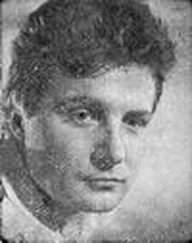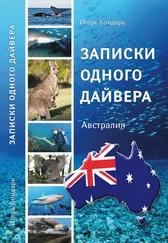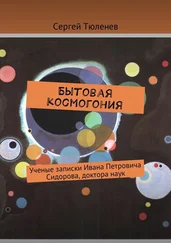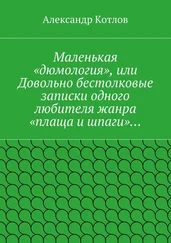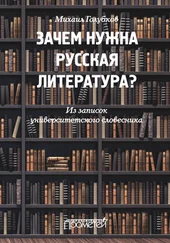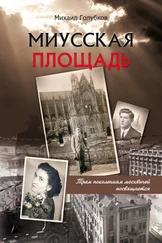В самом деле, даже название романа «Веселая жизнь, или секс в СССР» настраивает на дружеский разговор в мужской компании и как бы не предполагает женского присутствия, когда подобные темы обсуждать несколько неуместно. Создающийся в результате эффект дружеской беседы объясняется тем, что в романе есть образ почти незаметный, но очень важный. Это образ читателя, близкого друга автора, присутствие которого мы ощущаем буквально в каждой строчке текста. Именно к нему обращается писатель, именно он выступает в качестве собеседника, которому можно доверить буквально все. Без него подобная повествовательная структура не могла бы сформироваться: кому бы еще так доверительно можно обо всем поведать? Именно его присутствие мотивирует и авторские оговорки: «докончу как-нибудь потом», и обращения: «возлюбленный читатель, скорее туда, в золотую советскую осень 1983 года!» С образом читателя-друга мы ассоциируем себя. Отсюда эффект дружеской беседы, в которую мы погружаемся, читая роман.
Разумеется, Ю. Поляков – не первый, кто обратился к этому приему, введя в свой роман образ читателя-друга. «Кто б ни был ты, о мой читатель, друг, недруг, я хочу с тобой расстаться ныне как приятель»… Эти слова из «Евгения Онегина» описывают традицию введения в текст образа читателя – важнейшего для всей литературы послепушкинской эпохи.
Конечно, в романе Пушкина образ читателя очень сложен и противоречив. Там есть читатель наивный, который, услышав слово «морозы», непременно ждет рифму «розы», чем и одаривает его ироничный автор. Там есть читатель сердитый, придирчивый, недоверчивый, желающий уличить автора в орфографических ошибках и противоречиях. «Противоречий очень много, – соглашается с ним автор, – Но их исправить не хочу». Но читая роман Пушкина, мы ассоциируем себя почему-то не со сварливым буквоедом, коллекционером орфографических ошибок, а с читателем-другом, с которым автор может заболтаться донельзя, остановившись будто на середине Невского, прервав повествование о героях… С читателем, способным понять автора и разделить с ним его заботы – и литературные, и житейские. Пушкинское обращение «Друзья мои!» – это к нам.
Можно, наверное, говорить, что в русской литературе последних двух столетий сформировался жанр романа-диалога, романа-беседы, в котором образ читателя-друга столь же важен, как и образ автора-повествователя. И чаще всего это происходить тогда, когда в произведении ставятся проблемы литературные, когда на обсуждение с читателем выносятся вопросы романтизма и реализма, или же реализма и постмодернизма – от эпохи зависит. «Веселая жизнь…» Ю. Полякова развивает эту жанровую традицию.
Ю. Поляков обращается к жизни и нравам той среды, которую он великолепно знает и к которой принадлежит. Это литературная среда, многие коллизии которой, от литературного быта до литературного бытия, разворачиваются в ЦДЛ. И это не первое обращение Полякова к хронотопу писательского дома. Вспомним знаменитого «Козленка в молоке», действие которого по преимуществу происходит именно в ЦДЛ. Конечно же, писательский дом за почти уже столетнее свое существование сформировал такую ауру, не почувствовать которую невозможно. Но аура писательского дома показана автором с такой иронией, что всякий пиетет тут же разрушается. Как в «Козленке…», так и в «Веселой жизни…» главным местом, центром писательского бытия оказывается ресторан в Дубовом зале, а все литературные вопросы решаются после изрядной доли амораловки (такой напиток, изготовленный первыми кооператорами, пили в начале 90-х герои «Козленка…») или же коньяка и водки (как в 1983, когда амараловку еще не поставили на поток). Для того, чтобы попасть в комнату писательского парткома, в которой, собственно, и завязывается конфликт, необходимо пройти весь Дубовый зал и подняться по специальной винтовой лесенке, при этом дверь парткома сразу же выходит в ресторан. В минуты особой партийной необходимости гений места, официант Алик, носит рюмки с коньячком и закуской прямо в партком, который оказывается на деле самым что ни наесть ресторанным кабинетом с определенной долей приватности. Честно говоря, мне немного не хватало на месте Алика Арчибальда Арчибальдовича – тогда сходство с булгаковским «Грибоедовым» стало бы почти полным – правда, фигуры, равной Воланду или хотя бы Коровьеву в действительности 1983 года Поляков не обнаруживает.
В «Веселой жизни…» мы сталкиваемся с иронической романтизацией последнего советского десятилетия, в которое погружается, устав от юбилейной суеты собственного шестидесятилетия, автобиографический герой Ю. Полякова. Здесь есть и безжалостная самоирония, и история травли маститого писателя «русской партии» Ковригина, за которым угадывается В. Солоухин. С жанровой точки зрения, этот роман тяготеет к «Алмазному моему венцу» В. Катаева, где литературная ситуация 20-х годов осмысляется спустя несколько десятилетий, а реальные участники литературного процесса скрыты за псевдонимами. Нечто подобное мы видим и в «Веселой жизни…»: по признанию самого автора, там нет практически ничего вымышленного и он в самом деле был назначен на роль председателя партийной комиссии СП, призванной покарать опального художника. Он лишь слегка изменяет имена: себя именует Полуяковым, известный телезрителям того века политический обозреватель Бовин назван Вовиным, редактор «Литературного обозрения» Леонард Лавлинский появляется как Флагелянский… Драматическая в сущности своей история травли автора «Писем из русского музея» и «Черных досок» дана в романе сквозь призму грустной иронии, однако само время, его приметы, быт, очереди, магазины, первые открывавшиеся универсамы описаны невероятно «вкусно» и ностальгически…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу