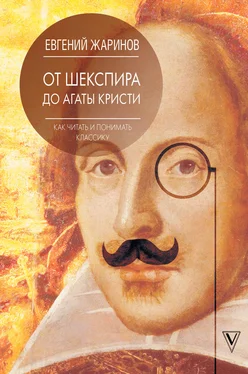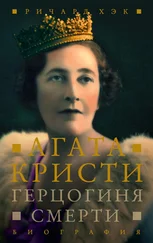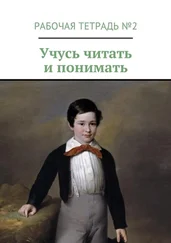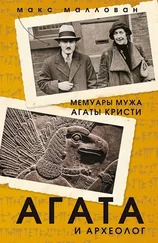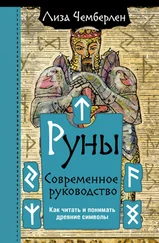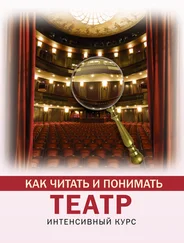Монтень противопоставлял добродетель своего «мудреца» «жалким условиям человеческого существования» («La miserable condition humaine»), бессилию, страху и зависимости. Требование суровой дисциплины сознательной, героической «мудрости» целиком предоставляло человека самому себе, давало каждому власть над своей личной судьбой. Утверждение личной самостоятельности человека и его права на внутреннюю независимость от обстоятельств жизни послужило основой индивидуалистического мировоззрению Монтеня, ростки которого дают себя знать уже на стоическом этапе. Уделом мудреца должно быть одиночество, то есть самоуглубление. (См. «Об одиночестве», кн. I, гл. 39). «Разумный человек не потерял ничего, если он сохранил самого себя». «Самая великая вещь на свете – уметь принадлежать себе». Так идеал человеческого совершенства постепенно находит свое реальное воплощение в индивидуальном развитии человека, в душевной жизни самого Монтеня.
Вера в практическую пользу философского размышления быстро сменилась у Монтеня разрушительным скепсисом по отношению ко всем философским доктринам и человеческим мнениям. Кульминационным периодом скептического умонастроения были для Монтеня годы 1575–1577, непосредственно предшествовавшие завершению первой редакции «Опытов». В этот период Монтень ориентируется на «Моральные сочинения» Плутарха, на произведения Секста Эмпирика и на книги Корнелия Агриппы Неттесгеймского, скептика в философии и мистика в науке. Этот период характеризуется более широким охватом действительности, преодолением односторонней нравоучительной проблематики предшествующего этапа. Вопреки скептическому отрицанию, которым теперь окрашиваются «Опыты», они становятся ярким изображением жизни, материального мира и человеческих отношений, критическим исследованием «условий человеческого существования».
В книгу проникает широкое общественное содержание, делающее её «опасной», полной драматизма, вступающей в конфликт с идейным обоснованием господствующего церковнофеодального порядка. Скептическое решение вопроса о роли религии в человеческой жизни, отношение разума и «откровения», знания и веры приобретало острый общественный смысл в период гражданских войн, когда конфликт враждующих партий питался ожесточёнными религиозными распрями.
Не посягая с виду на религию, как на систему догматов, Монтень разрывает связь между Богом и человеком и стремится найти подлинное место человека в природе. Человек – слабое, беспомощное создание, подавленное величием космоса, пасынок природы, которая совершеннее и мудрее его. Отнимая у человека роль «царя природы» и «венца творения», Мыслитель тем самым по-новому обосновал автономность человеческого бытия. Бог для Монтеня – не личный бог человека, милостивый отец людей, а Бог природы, строитель вселенной. Оставляя за идеи Бога недоказуемое преимущество совершенной и неизменной истины, Монтень удовлетворяется в сфере человеческой действительности временным, относительным, преходящим. Он видит в жизни и деятельности человека постоянную текучесть и изменчивость форм, противоречивость, непоследовательность и случайность опыта, беспомощность и заблуждение мысли, преграждающие человеку прямой путь к познанию истины. В постоянных поисках истинного решения, в беспокойстве и разочаровании, ведущих человека от одной ступени сознания к другой, от одного «нравственного» состояния к другому, Монтень видит творческую, подлинно человеческую ценность. Скептическая критика разумной деятельности людей является для Монтеня путём к утверждению неисчерпаемого богатства человеческих возможностей. В то же время она служит средством искусного доказательства того, что человеческий разум, ненадёжный руководитель в земных делах, совершенно бессилен в делах небесных.
Творческий скептицизм Монтеня чужд отказу от проникновения в истину. Различие мнений, их вечная смена и непостоянство, противоречия оценок, обычаев, форм существования, характеров и воззрений свидетельствуют о бесконечном богатстве и разнообразии мира и человека.
С внешней стороны «Опыты» представляют свободное, беспорядочное сочетание размышлений и наблюдений, описаний и примеров, анекдотов и цитат, объединённых, чаще всего без видимой связи, в главы, расположенные совершенно случайным образом и без всякой последовательности. Разорванная, фрагментарная форма «Опытов» позволила Монтеню переходить от одной темы к другой с той свободой, которой он был обязан своей глубокой наблюдательности, исключительной начитанности и постоянному общению с культурным наследием прошлого и настоящего.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу