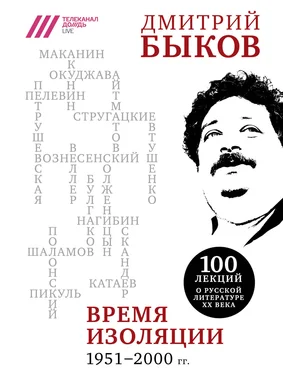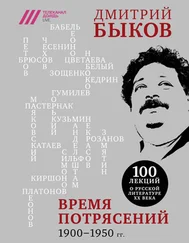Во многих отношениях советская литература XX века была муляжом литературы века XIX. И вот страшный какой вопрос. Казалось бы, советская проза столкнулась с небывалыми явлениями и вызовами. Она столкнулась с такой войной, с такой Гражданской войной, с таким формированием нового человека, с таким гигантским сломом языка и психологии, что это должно было породить шедевры! И не породило. И даже больше. Один из главных феноменов, скажем, 20-х, что главный жанр 20-х – это не роман о Гражданской войне, а это трикстерский роман, плутовской роман, роман о Бендере, а вовсе не о гегемоне. И Великая Отечественная война тоже не породила по-настоящему великой литературы, потому что рефлексия на эту тему просыпается только сейчас, когда мы думаем: «А вот солдат – он отвечает за родину или нет? Или присяга с него снимает все грехи?» Вторая мировая война породила великую прозу в Штатах или в Англии, а в России эта проза искажена страшным идеологическим диктатом. Великую прозу можно было написать. Её мог написать Гроссман. К великой поэзии вплотную подошёл Твардовский. Были великие стихи у Симонова. Но в целом Вторая мировая война в русской литературе не отображена, вот в чём ужас-то. А сейчас уже некому отображать. Некоторые попытки сделали перед смертью Виктор Астафьев и в семидесятые годы Василь Быков, а больше вспомнить почти нечего. Бакланов, Бондарев – но и там колоссальный диктат идеологии. То есть ужас в том, что все эти великие страдания, великие вызовы, великие нравственные вопросы XX века в русской литературе были зря, потому что отражены по-настоящему только репрессии, и то в очень немногих текстах, потому что почти никто не выжил. У нас есть «Колымские рассказы» Шаламова, у нас есть «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, это книги во многом полярные, во многом друг с другом враждующие. Но у нас толком не осмыслен даже лагерный опыт. Я думаю, что некоторые попытки его научного осмысления есть у Демидова, великого прозаика, которого начали читать только в последние годы, потому что весь массив его прозы был изъят в восьмидесятые. Он сейчас стал возвращаться, но он возвращается к тем, кто уже не умеет читать, или к тем, кто не знает реалий. Поэтому ни научного осмысления русской катастрофы XX века, ни художественного у нас почти нет. Вы скажете «Тихий Дон». Наверно, «Тихий Дон», хотя мы имеем дело, скорее всего, с переработанным великим романом. Сам ли Шолохов его сознательно ухудшал или ухудшали его редакторы – этого мы не знаем. Не знаем даже, Шолохов ли его написал, хотя честно вам скажу, я перечитал прозу Крюкова – ну никак он не может быть автором «Тихого Дона». Хороший был человек, наверно, неплохой писатель, но проза – ничего общего с сухим, напряжённым, страстным стилем «Тихого Дона». «Тихий Дон» писал молодой человек, просто, может быть, мы не знаем имени этого человека. Кроме «Тихого Дона», не на чем взгляду отдохнуть. И даже в «Тихом Доне» отражена трагедия казачества. А трагедия интеллигенции, трагедия мигрантов, трагедия питерского пролетариата – на всё это не было писателя, потому что почти сразу советская власть начала свою литературу бить по рукам и очень часто обрубать ей руки. И в результате в двадцатые годы никакой рефлексии на тему Гражданской войны у нас нет. Есть «Конармия» Бабеля, которую пытались запретить сразу после издания, и есть «Вор» Леонова, но он тоже уже не о Гражданской войне, а о том, как идут в деклассированные элементы бывшие герои этой войны. Трагедия обывателя, трагедия языка у нас есть благодаря Зощенко. Есть у нас Андрей Платонов, который что-то, может быть, действительно попытался своим сдвинувшимся языком выразить. Но ведь Платонов один такой! И то Платонов свои революционные драмы не написал, у него гораздо больше о русской истории сказано в повести на материале XVIII века, в «Епифанских шлюзах», а так единственная вещь о советской утопии у нас – это «Чевенгур» и отчасти «Котлован», но и то и другое – метафора. Мы не осмыслили свой бесценный опыт, и поэтому во многом он пропал напрасно. Здесь вся надежда на дневники.
Вторая тенденция литературы XX века, совершенно очевидная, и в русской литературе более очевидная, чем в мировой, – это выход фантастики в мейнстрим, иными словами, гипертрофированная роль фантастической литературы.По формальным причинам это случилось потому, что советская цензура чуть менее грозно смотрела на фантастику. Она числилась по разряду сказки, поэтому Стругацкие, вы не поверите, сумели напечатать «Обитаемый остров» и «Трудно быть богом». Как это получилось? Это совершенно непостижимо. Я думаю, что у этой цензуры было уникальное чутьё, поэтому они с таким скрипом пропускали «Пикник на обочине» – самое точное описание советского проекта. А почему они прицепились к невиннейшим «Гадким лебедям» или глубоко зашифрованной «Улитке на склоне», сейчас совершенно непонятно. Тем не менее Аркадий и Борис, наши старшие братья по разуму, умудрились напечатать «Жука в муравейнике», как-то чудом это вышло.
Читать дальше