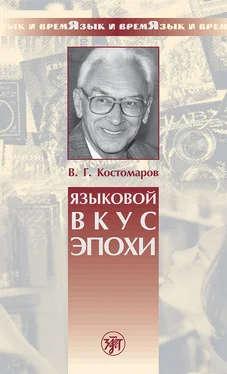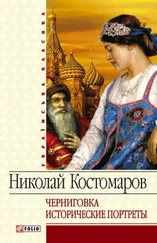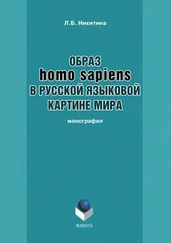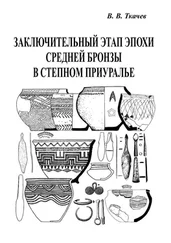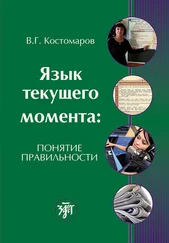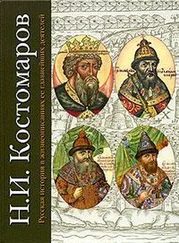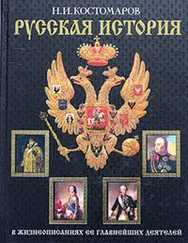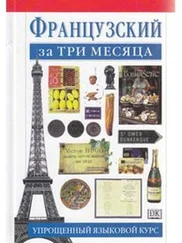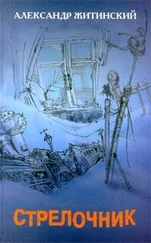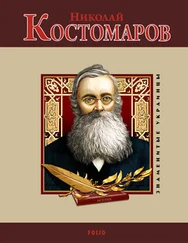Характерно такое развитие «древесной метафоры»: «Применительно к современному русскому языку я все-таки вижу здоровое, крепкое дерево с мощным стволом и густой кроной. Многие ветви, правда, обломаны, деформированы, на некоторых видны безобразные наросты, кое-где листья уничтожены вредителями. Но дерево полно соков и энергии» (Г. Н. Скляревская, 5, с. 40). Но как при таких симптомах не обеспокоиться состоянием больного и верить в его энергию и соки?
В программном докладе Ю. Н. Караулова на конференции было справедливо замечено, что «текущим языком» лингвистика никогда по-настоящему не занималась. И это еще одна причина рассматриваемого противоречия: формулируя ответ на ключевой вопрос, авторы исходили не из анализа материала, а из своих оценок и навыков, полагая, что, находясь в речевой среде, они и из отдельных попавшихся им на глаза примеров, без систематического обследования этот материал знают. В такой ситуации лишь естественно, хотя для лингвиста и наивно, сравнить свое знание системыи ее образцовое использованиес речью окружающих и сделать вывод, что первые безупречны, а вторая никуда не годится, не допуская печальной возможности, что она базируется на деформированной системе, именно на ином ее состоянии в головах окружающих.
В. Г. Гак посоветовал автору этой книги различить «качество языка» (его состояние) и «норму» – по аналогии с социолого-экономическим противопоставлением «качества жизни» и «уровня развития». Он указал при этом на изданную в Канаде книгу «Кризис языка»; это сочетание оказывается универсалией сегодняшнего развития: так оценивают свои языки французы, англичане, венгры и многие другие. Причиной служит, несомненно, общая либерализация, общий вкус нынешнего поколения, требующий выхода за пределы канона и стирания жанрово-стилевых ограничений, с чем никак не мирится старшее поколение.
Последовательный сбор материала, даже частичный – как в нашей работе, убеждает в том, что все-таки не о кризисе русского языка следует говорить, но именно о его состоянии. Оно включает и «качество» (т. е. речь) и «норму», ибо язык не остается безучастным к происходящему в речи (а это отнюдь не просто круг «культурно-речевых проблем»!) и, более того, начинает регулировать уже эту речь, сам переходя в новое качество.
Характерно, что для участников дискуссии фактически не вставал вопрос о хронологических рамках обсуждаемого состояния, и часто имелись в виду типичные черты, существенные своеобразия языка всей советской эпохи, никак, кстати сказать, не отличающейся гомогенностью языкового развития. Так, многие ссылались на «канцелярит» и номинализацию как самый яркий его симптом, на обороты тоталитарного единомыслия, на языковое единообразие и «пуританство» авторитарного режима, хотя сегодняшнему состоянию русского языка эти болезни предшествующих состояний как раз совершенно не свойственны: они заменились противоположностями – расширением границ литературного стандарта, размытостью и вариативностью норм, жадным обновлением средств выражения.
Нет сомнения в том, что сейчас разрушен или быстро разрушается литературно-нормативный язык образованной части общества с его положительно консервативной, интеллигентски и художественно облагораживающей сущностью и регулирующей, консолидирующей всю речевую деятельность нации ролью.
Заметим, кстати, что глубокие различия разных, даже противоположных по вкусовым тенденциям периодов развития «русского литературного языка советской эпохи» не учтены, к сожалению, в очень интересной и добротной работе – I.H. Corten. Vocabulary of Soviet Society and Culture. A Selected Guide to Russian Words, Idioms, and Expressions of the Post-Stalin Era, 1951–1953 (Duke University Press, Durham and London, 1992). Такое объединение или соединение, имеющее очевидную практическую ценность, конечно, противоречит нашей идее – рассмотреть в качестве движителя развития языковой вкус именно начала послегорбачевского «перестроечного» периода. Между прочим, будучи весьма наблюдательной исследовательницей, Ирина Кортен оговаривает, что «ситуация драматически изменилась после 1985 года» (Предисловие, с. 13).
И в самом деле, ситуация сейчас такова, что заставляет сомневаться в том, что все происходящее проходит мимолетно, никак не затрагивая систему русского языка. Нельзя, например, не прийти к выводу о заметных сдвигах в привычных соотношениях нейтральных и маркированных средств выражения, в традиционных принципах выбора и композиции их, в изменении их окрасок (чаще всего в сторону нейтрализации или даже детабуизации), иными словами о сдвигах в устоявшемся балансе центра и периферии. А это уже явно относится к системе, а не просто к сиюминутной и преходящей специфике функционирования языка, к «речевой добавке» (пользуясь термином М. Н. Кожиной).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу