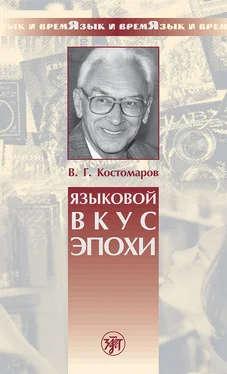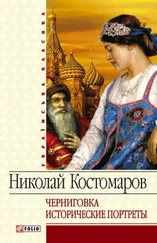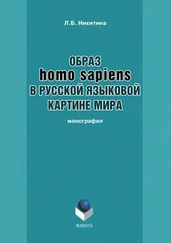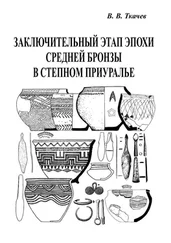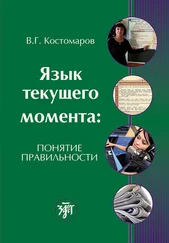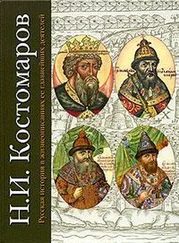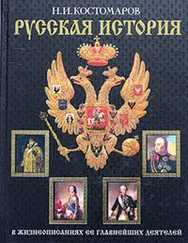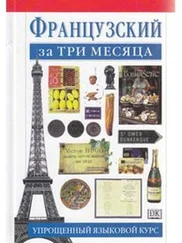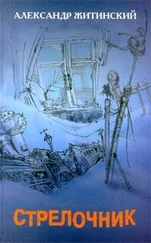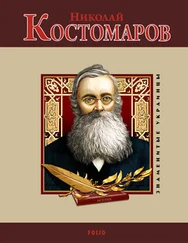Как уже замечено, дихотомия язык – речь , если ее понимать догматически, далеко не всегда обладает объяснительной силой. Связи кода и его функционирования столь органичны, взаимопереплетены, сложны и многогранны, что далеко не всегда удается эти два понятия разграничить и тем более противопоставить. В принципе все системные изменения начинаются в речи, хотя, разумеется, далеко не все речевое системно фиксируется. Можно думать, что сегодня в нем отражается и закрепляется слишком многое, что проверочно-охранный литературно-языковой механизм перегружен и пропускает излишне многое.
Во всяком случае, не кажется вполне правомерным утверждение, будто русский язык, развиваясь в полном соответствии со своими историческими традициями, вне какой-либо опасности, хотя пользующиеся им – в силу ли моды или своей персональной малограмотности – пренебрегают его нормами, стилевыми и стилистическими закономерностями, правилами выбора, отбора, композиции синонимических, параллельных, соотносительных средств выражения.
Состояние языка – это, конечно, оценочная категория и, как все социальные оценки, вполне во власти субъективизма, хотя по логике вещей и должна была бы базироваться на каких-то объективных качествах оцениваемого предмета.
Это отлично показал в своем ответе на анкету о состоянии русского языка Л. Н. Мурзин: «В массовом языковом сознании господствуют ложные ценности, трудно искоренимые предрассудки. Одни из них связаны с отношением языка к мышлению, а другие – с представлениями о языковой норме… Суждения о состоянии языка в значительной степени основаны на убеждении в принципиальной неизменности языка… Такой взгляд на язык влечет отрицание вариативности языковых единиц… Поэтому подлежат безусловному осуждению заимствования, диалектизмы, тем более сленговые формы и т. п. Говорящий, столкнувшись с возможными вариантами, якобы обязан выбрать один и только один, единственный, но правильный вариант, т. е. по существу лишен свободы выбора; язык навязывает ему свою волю. Это соответствует внедренной за десятилетия в наше сознание “социалистической морали”, идеологизированной культуре, устоявшемуся стандартному мировоззрению!»
Вдумчивый исследователь справедливо продолжает: «Сегодня, когда идеология рушится, а язык стремительно обогащается, протест у носителей языка вызывают новации разного рода…; с бедностью, как это ни парадоксально, они мирятся охотнее, чем с его обогащением. Очевидно, здесь сказывается также идеальность языковой нормы в общественном сознании, норма есть привычка говорить так, а не иначе; а привычка, как сказал поэт, свыше нам дана. Поэтому, уже в силу консерватизма общественного сознания, состояние языка оценивается негативно в большей степени, когда наблюдается языковая раскованность, обретает большую силу свобода языка, расшатываются языковые привычки» (4, сс. 52–53).
Указывая на то, что русский язык (в смысле его устройства, структурной целостности на сегодняшнем этапе эволюции) не утратил своей функциональной самостоятельности и активности, даже переживает пору особенно интенсивного развития, Г. Н. Скляревская справедливо пишет в своем ответе на анкету: «О жизнеспособности русского языка говорит, в частности, его словообразовательная активность: стоит появиться новой реалии, как вокруг обозначающего ее слова тотчас выстраивается целый ряд дериватов… О гибкости и жизнеспособности языковой системы свидетельствует также ее открытость. Поток заимствований в русский язык, принявший в последнее время, кажется, тотальный характер, не должен расцениваться как негативное явление: ведь на дальнейших этапах развития язык неизбежно отторгнет избыточные элементы, те, которые не адаптировались, при этом оставшиеся не засорят, а обогатят наш язык, как уже неоднократно случалось в прошлом. Открытость системы для периферийных средств (жаргонизмов, терминов и др.) также не следует драматизировать: происходит обычное перемещение языковых элементов по оси “центр – периферия”, только значительно более интенсивно, чем обычно» (5, сс. 39–40).
Несмотря на оптимистически-оправдательный тон этих слов, внутренне сама Г. Н. Скляревская, тонко и поэтически чувствующая слово, заметно обеспокоена именно состоянием языка. Правда, вербально тревогу у нее вызывает «массовое косноязычие, производящее впечатление национальной катастрофы», но многозначительны слова: «Неутраченная способность нашего языка к саморегулированию оставляет надежду на то, что современный язык освободится от порчи».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу