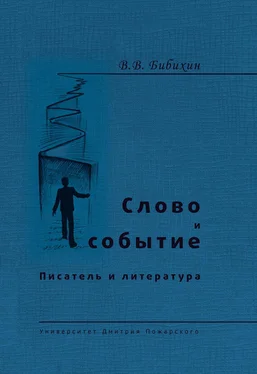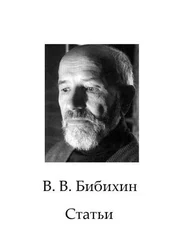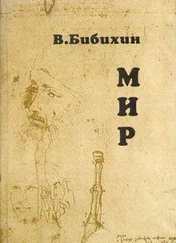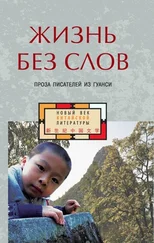В этой эпике остается что-то теплое и подарочное. Всё охвачено успокоительным повествованием. Всё кружится вокруг литературы; итог человеческой жизни в редчайшем хорошем случае сборник новелл; лучшие мечты не идут дальше участия в литературном процессе. Ничего кроме литературы всё равно нет. В ее уют всё вернется. Писатель снова всем симпатичен, перед утомленным духовником («…исповедь подонков… но печенье вкусное») все сознаются во всём со сказочной доверительностью.
Роман сцеплен не интригой, не условным я , а переменой цвета мира от серьезного усилия мысли. Он увлекает как всякая старательная работа независимо от ее результатов. Этим и притягивает вещь: готовностью к неожиданностям. Конечно, в пределах. Предел зоркости кладет, странно сказать, гибкость слова. Оно льнет к вещам и обволакивает их. Герой нашего времени, писатель, встречается с героем его времени, банкиром. Их разговор принимает конечно литературную форму. Шанса непониманию не оставлено, молчания в их диалоге не предвидится. Встреча литературы с деньгами приобретает витиеватый характер. Завязываются интеллектуальные беседы о перспективах России, банкир делает жест щедрого подарка и тонко обманывает, его хитрость восторгает инженера человеческих душ, он переигрывает банкира, вручая ему лежавшую на литературе тяготу, доброту; добр до сих пор был писатель, теперь невзначай он всё меняет, сам будет скорее злым, он нашел кому сбагрить маску добра, уклончивому меценату. Хотя писатель получил уютный маленький дом фиктивно, подполье для него окончилось. Он показал слабость, допустив в обмен на подарок дома второго хозяина, равного себе героя, способного дарить, учащего психологическим пируэтам.
Любовь народа к Писателю после подозрения в убийстве восстанавливается до жажды всех мужчин открыть ему душу, всех женщин – тело. Он снова всем желанен как литература, как свое, заветное, как сладкий сон. Он видит шваль в лицо и берет с нее дань любви чаем, семейным борщом, женщинами. Так снимают часы с умирающего, которому они всё равно не нужны. «Эти тщеславные, хвастливые люди были бедны всегда. Они пройдут целым поколением, не оставив миру после себя ничего. Их бедность по счастью незла – она душевна и даже греет (меня к примеру). Мне с ними неинтересно, но… тепло. Пришел в дом, еще не поздоровался, тебя уже кормят. Уходишь – тоже кормят. Или чай. Обязательно. При этом хозяйка жалуется: дочке шестнадцать, а уже подгуляла, ребенок?.. или первый аборт?.. Муж скрипит зубами. Да и сама тоже как оглашенная вдруг в истерику… И как охотно они (он, она) о себе рассказывают, как хотят чтобы ты их понял. Они пьют с тобой ради этого, спят ради этого. Быть понятым опьянение особого рода. Необходимость, наркотическая зависимость. То есть должен же быть на сонных этажах кто-то, кто станет их слушать».
Из функции божественного шпиона литература скатывается. Она вплетается в паутину межчеловеческого говорения теперь уже без жажды и страха доноса. Святой осведомитель отчаялся найти выслушивающую инстанцию. Тогда выслушивать будет он сам. Функция не хуже другой, принимать коммунальные исповеди, с которыми люди не могут пойти в храм.
Писателя теперь обильно рвет литературой, которая еще надеется кому-то что-то донести. «Плитка валялась прямо на полу. Когда-то ее достать было невозможно, о ней мечтали, ее разыскивали, теперь будущий глянец наших сортиров и ванных комнат валялся вразброс бесхозный, неохраняемый, и на нем, на штабелях, восседали там и тут полубезумные старые графоманы. Писаки. Гении. Старики, понабежавшие сюда за последним счастьем. Моя молодость; что там молодость, вся моя жизнь. Эти лысины и эти морщины, эти висячие животы и спившиеся рожи уже не надеялись, но они всё еще хотели . Жить им (нам) осталось уже только-только. И желаний было только-только. Но первое из первых желаний было по-прежнему высокое – напечататься. Один старик выкрикивал другому в самое ухо: Так уже не пишет никто. Пойми: мои тексты сакральны! сакральны! сакральны! – страдальчески каркал старый ворон, рвал душу». Так в напрасной надежде улететь выходили ночью в открытое поле под звезды уставшие от скотобойни люди в другом, раннем маканинском романе. Писателя, который внутри самой скотобойни согласился бы выслушивать души, там еще не было. Теперь писатель нашел для себя новую задачу, не хуже других. Он заменил кончившегося читателя. Никому ничего уже не сообщая, он перешел к приему исповедей.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу