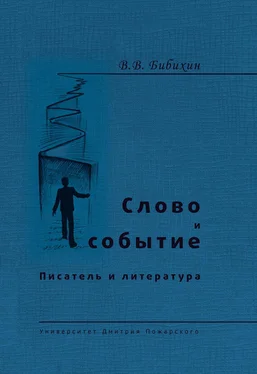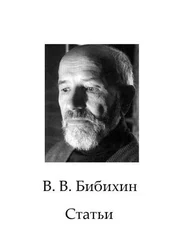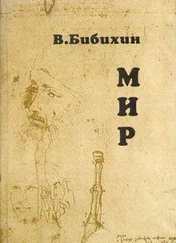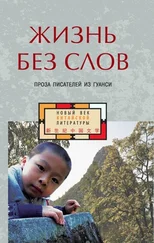Её существо проясняется по мере того как он с болью выбивает ее из себя как пыль из ковра. Удары по себе тут действительно сыплются со всех сторон. Литературное образотворчество пародируется в навязчивой, липкой мимикрии зыбучего я под всех встречных. От самого себя это я прячется, не называя себя по имени, в протеическом Петровиче . Имя имеет гениальный брат писателя, художник, который уже не присутствует в этом мире, давно погрузившись в ад и ужас. Писатель зацепляется за всех, всё подцепляет и волочит за собой бесконечную цепь зачатий. Новый Чичиков, он болезненно просачивается повсюду, блудливо вползает во все шкуры, не упускает, не отождествив себя с ним, ни одного героя литературы и современной мифологии от Пушкина и Раскольникова до лица кавказской национальности и Венедикта Ерофеева. Писатель одержим неодолимым желанием отметиться во всех ярких ролях от преследуемого до убийцы, не пропустив самоубийцу. Он проигрывает себя подследственным всемогущего КГБ, бомжем, жертвой психиатрии; писательским вчувствованием он наскоро побывал везде, о чем пишут и слышат, и во всякой постели, к которой всегда оказывается короткий шаг, как потянуться к сигарете или к пишущей машинке.
Наблюдатель, вживающийся во всё что видит, вечен и обеспечен от беды. « Я с этой стороны вполне самодостаточно – оно живет, и всюду, куда достает его полупечальный-полудетский взгляд, простирается бессмертие, а смерти нет и не будет. А если есть бессмертие, всё позволено». Половинчатость здесь из-за примеси этого позволения, делающего печаль и детство лукавыми. Бессмертие простирается не ими, а литературой. Вседозволенность наказывается душевредной необходимостью вглядываться в любую наглость, невольно заражаясь ею. Места, в которые всматривается писатель, не случайны. Бессмертное я возникнет например там, где ожидается появление состоятельных господ. Оно заботится о живописном разнообразии впечатлений.
Важно становится, мы сказали, там где высветляется понятие литературы и слоя, несущего ее в России, подполья. Подполье выше тех, кто устроился, и тайно ревниво выверяет при встрече с ними свое превосходство. Власть в облике нищеты, подпольный Писатель ценит вольтову дугу мгновенных перекрещений с высшими. Две силы тогда угадывают друг друга. Тайная власть таким образом всегда открыта для союза с явной, но дневное могущество явной силы слепо, не слышит предостережений, и пророк снова молча уходит на свое дно. Он еще увидит оттуда, как в очередной раз неизбежно сменится сцена, успеет заглянуть, заказывая себе встречи, в любой дом.
Некрасивый усталый нищий народ, мелкий угрюмый люд, выпитый пространством, для подпольного писателя в духе народничества весомее и богаче блестящей пустоты верха. Старого волка задевают правда зубы молодых дельцов, но опять же не очень, потому что в отличие от них он знает, как точит время. Он огрызается, ударяя, только когда ему грозит яма, чтобы вернуться на дно. Удар спасает от ямы как паспорт от задержания, как шпага и дворянство некогда избавляли от телесного наказания. Удар знак благородства, (духовного) аристократизма. Он копится как импульсивная реакция на страх ямы. Поскольку удар символ мелкого слова, он равносилен писательскому удостоверению в кармане, т. е. праву идти дальше наблюдателем по жизни. Животный страх оказаться на общих основаниях прочерчивает границу писательского мира и остается соответственно неосмысленным.
Выживание подполья обеспечено неизбежными ошибками всех кто приподнялся над дном. Независимой уверенности в себе у подпольщика нет, отсюда его потребность рационализировать. Мир делится на мы, вы и они; мы честные и держим фронт, бьемся на дуэли; они предают, погнались за славой и т. д. Решающей разницы уровня, которую можно было бы ощутить как тон и цвет, не получается, от высших сфер подпольщика отделяет всё-таки своего рода партийность, требующая усилий для поддержания своего статуса. Смертельной угрозой становится поэтому подозрение в нечистоте отстраненности, оно вызывает смертельную панику. Писатель должен убить в себе свою смерть. Для этого нужно убить другого, кто слишком к нему приблизился и может вырвать его тайну.
Тайна писателя в том, что хотя он давно ничего не пишет, он остается литератором, т. е. доносчиком. Он божественный шпион. Это жало у него вырвет тот, кто перехватит донос и отнесет его в человеческие инстанции. Предполагается, в порядке всё той же мифологии, что такие инстанции существуют в могущественных органах безопасности, неустанно готовых выслушивать доносы. Писатель боится оказаться доносчиком как удара в свое сердце. Он тоже сообщает. Инстанция, которой он доносит, это как минимум суд истории. Если окажется, что литература это всего лишь цепочка сообщений от людей к людям, если сообщения образуют замкнутую цепь и тайна слова иллюзорна, это убьет литературу и писателя. Слово с самого начала было задумано как сакральное. Человеческое сердце будет взрезано для сохранности этого сердца литературы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу