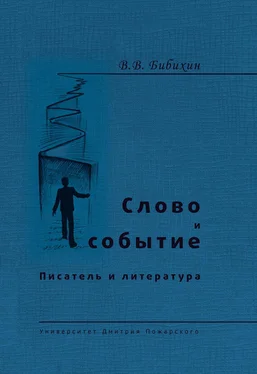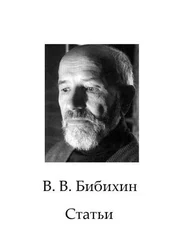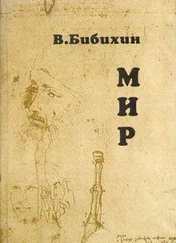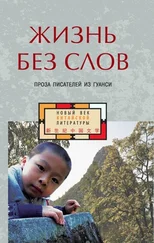Наблюдения над жизнью копятся для предъявления. Кому? Писатель давно перестал писать. Он понял что инстанции, которой можно было бы пожаловаться, нет. Его поведение похоже на голодовку протеста против отсутствия этой инстанции. Ею могла бы быть совесть, которой давно не слышно. Весь роман развертывается как накопление жалоб, в одном ряду и крупных и самых мелочных, на личном счете. Их множество заведомо беспредельно. Человек с голодными глазами уже не ждет что его накормят, он заворожен умножением обид. Это становится его пищей. Он страж-самостав на вечной службе при стихии несправедливости.
Новое в лишнем униженном и оскорбленном человеке способность неожиданно сильно ударить. От Достоевского, взявшего вину мира на себя, писатель возвращается к Пушкину, дравшемуся с обидчиком. Под сплошным потоком сносимых со всех сторон обид спорадические вспышки гнева похожи правда скорее на срывы. Только прекращение жертвенной совестливости налицо, говорить о достоинстве, умеющем постоять за себя, пока нельзя.
«Философия удара» выглядит странно и приложена явно искусственно к переусложненным, перехитренным манипуляциям писателя, в котором слишком много мудрости и тонкости. Удар кулаком в лицо, ножом со спины в сердце слишком явно символ меткой фразы, он невещественный. Он имеет смысл лишнего напоминания о возможности русского бунта. Бессмысленного и безобразного, трезво соглашается Маканин. Сила подпольщика не в его крепкой руке, потому что всякий раз он так или иначе оказывается снова унижен, а в правде земли. Рецепт ударь , разрешение себе импульсивного размаха обозначает мечтательное расставание с интеллигентщиной, понятой хрестоматийно как безысходная рефлексия. Импульсивный удар надеется сравняться, быть со всеми. Народу приписывается способность к освежающей безотчетности.
Машина времени, несущая и повертывающая людей, его темный густой поток в большей мере герой романа чем я писателя, при своей текучести собственно номинальное. Из потока, несущего в яму, должен вырваться удар – меткая фраза или кулак. Крепость кулака объясняется двадцатилетним печатанием на тяжелой пишущей машинке. Надежда вырваться остается неуверенной. В самом себе Писатель знает столько косности, что одной ее хватит на обеспечение потока. Упоение процессом уже слишком далеко зашло. Философия удара как сути мироздания, воспоминания о гераклитовской молнии, которая правит миром, фантазии об усилиях мысли скатываются до судорожных пьяных ударов кулаком в лицо обидчика и ножом в спину. Мы слышим последние хрипы и всхлипы надежд на восстание, которые когда-то шевелились при чтении книг. Теперь они стали ёрничеством. Всего чище надежда сохранилась только в культе меткой лексики. Так пленники в платоновской пещере, скованные по рукам и ногам, неспособные повернуть голову и увидеть что-то кроме экрана, оттачивают способность распознавать тени вещей. Литература, чья мертвая хватка не отпускает непишущего писателя, составляет более благородную часть главного занятия современного человечества, гадания на слове. Писатель живет тем, что нанимается сторожить квартиры. Он хранитель языка, дома бытия по Хайдеггеру, которого он в подопечных квартирах читает. Дом оказывается каждый раз чужой. Интимная магия женщины отходит на второй план, всё решительнее сливаясь со сном.
Так мы перечислили основные элементы маканинского пейзажа. Действие романа, и это хороший авторский прием, заключается в высвечивании наплывами отдельных деталей. Тогда они достигают пронзительной, сомнамбулической близости и лопаются, частично оттесняя кошмар, из-за чего, роман этим увлекает, поле зрения просветляется, цвет времени меняется. Не высвечивается только дно, оно имеет вязкие свойства родного болота. Обтекающее, липкое не отпускает, к концу романа совсем застилая глаза, потому и не дает взглянуть на себя. Зато всё остальное, увиденное правда через одну и ту же оптику дна, выстраивается в выставку большей частью удачных шаржей, особенно из коммунального быта. Писатель дружен с художниками и кстати считает истинным дарованием не себя, а своего младшего брата, который превосходил Зверева, но был затолкан, «российский гений, забит, унижен».
Портретная галерея охватывает всю новейшую типику. На первом месте стоит демократия, образ которой поверхностен. Образы здесь, как к сожалению и в большинстве тем за исключением литературы и отчасти женщины, почти не идут дальше актуальной мифологии. Тем более что писатель соглашается сползать вместе с демократами в распущенность, у него тоже нет и намека на понимание что демократия это прежде всего общее согласие на законный порядок, главное достоинство и первый долг власти сопротивление толпе. Угасающие мечты об ударе и усилии характерным образом делают ставку на шок, встряску, прорыв и далеки от задачи поднимать. Вместе с демократами писатель понимает подъем только в свете идеала, одновременно разоблачая все идеалы в лживости. Настоящий смысл происходящего усматривается писателем в литературе .
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу