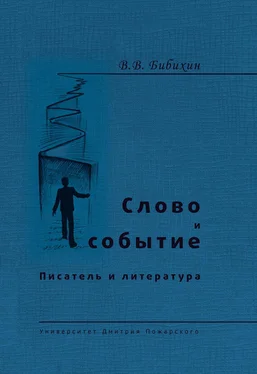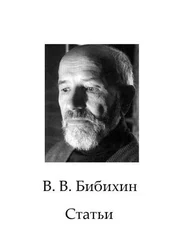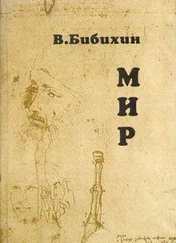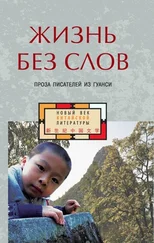(186–187) <���Да, он строит свой мир, следуя своим интересам, etc. Но ведь, в конце концов, даже математика, физика – отражение не чистой реальности, а всегда – [в соответствии с умственными ресурсами людей, с устройством их ума; тем не менее, они относительно «абсолютны», объективны.] Другое дело – когда в дело вмешивается грубый интерес, вульгарная страсть, аффективная, политическая, социологическая интерпретация.>
(188) Новый роман отнимает у меня свободу воображать, замыкает в свой воображаемый мир; нет перспективы для воображения.
Истина… разве что сон во сне.
(206–207) Хотят утопить произведение, растворить его в контексте, уничтожить. Если не знать, что произведение неуничтожимо, то впору уж кричать караул! Убийство !
(207) Запад думает, что любовь – это обладание. Нет, это скорее отдавание.
Французы не знают такой любви, поэтому они так эгоистичны и стерильны в своей политике.
(210) Откуда в человеке вина: он еще не знает, хочет ли он на самом деле жить. [Сейчас или всегда, если я живу, то это потому, что моя воля не существовать перекрыта, подчинена жажде существования. Обе эти воли в непрерывном конфликте, в этом-то конфликте коренится та драма, та тревога, что наполняет мою жизнь беспокойством, нечистой совестью, чувством вины. Счастливый человек это человек, любящий жить, жить без задних мыслей, его не преследует мысль о смерти, он не одержим ею и поэтому она его не страшит. Умру ли я так ничего и не узнав, не поняв?
Агрессивность против индивидуального «я» (если можно так сказать), отрицание этого личного я представляется мне запоздалым плодом, осознанным или нет, двух принципиально коллективистских, антиперсоналистских тенденций этого века: нацизма и левого тоталитаризма (такого, каким он был реализован в истории)… Если индивидуальное Я это иллюзия, что же помешает мне его уничтожить, разрушить, презирать, убить этого человека, посадить его в тюрьму?]
(211–212) Все отрицатели индивидуализма сами отчаянные и разнузданные индивидуалисты, одержимые патологической волей к власти, безудержным желанием проявить, утвердить себя, поглотить или покорить других, чтобы выжило только одно их гипертрофированное Я. Всё должно погрузиться в обобщенную безличность, в коллективное бессознательное – кроме Я, не терпящего присутствия других и желающего вытолкнуть их из себя.
(212) Всякий человек – это вот tourbillon [вихрь, водоворот.]
[Я до такой степени настоящий, что не могу ускользнуть от самого себя. Я организую себя. Я тот, кто таким образом организует меня, располагая по-другому те же материалы.]
<1980-е>
Нобелевская лекция Генриха Бёлля [216]
Бёлль объявляет слушателям, что собирался говорить о литературных связях между Россией и Германией, но вспомнил, что уже много писал об этом и между 1966-м и 1968-м годами готовил документальный фильм о Достоевском, написал доклад на эту тему, который вошел послесловием в издание Толстого. Он останавливая внимание говорит о множестве неучитываемых вещей в мире, в которых может гнездиться поэзия, описывает подробно свой стол, пишущую машинку, листок чековой книжки. На ней 32 непонятных цифры. Ради денег, золота, счета западная цивилизация, западный разум, «наш тотальный разум», разрушил культуру американских аборигенов.
Для поэзии воды и ветра, буйвола и зеленого луга, в которой воплощалась их жизнь, была в запасе только насмешка – а теперь мы, цивилизованные обитатели Запада, в наших городах, конечных продуктах нашего тотального разума, ибо по справедливости приходится сказать: мы себя не пощадили, – начинаем немного чувствовать, что на самом деле представляет собой поэзия воды и ветра и что в ней воплощается.
Церковь гналась за разумностью, приучала народы к ненужной и неисполнимой мелочной морали катехизиса и забыла о Воплощенном.
Примерно двести цифр, которые я в строжайшем порядке, группа за группой, с несколькими шифрами в придачу, должен хранить в голове или по крайней мере на бумажке как доказательство моего существования, не зная как следует что они означают, воплощают в себе немногим более чем два-три абстрактных требования и подтверждения существования, имеющих силу для бюрократии, которая не только выставляет себя разумной, но разумной является. Мне не остается ничего другого как слепо доверять ей, к чему меня всё и подталкивает. Не следует ли мне ожидать, что разуму поэзии будут не только доверять, но и укреплять его – не тем, что оставят его в покое, а тем, что заимствуют от него частицу его покоя и его гордого смирения, которое всегда может быть лишь смирением перед униженными и никогда – смирением перед вышестоящими. Уважение кроется в нем, почтительность, справедливость и желание узнавать и быть узнанным. Не собираюсь формулировать здесь новые литературные миссии и их носителей, но думаю, что в духе поэтического смирения, почтительности и справедливости должен сказать, что вижу много сходства, большие возможности сближения между чужим в смысле Камю, отчужденностью кафкианских персонажей и воплощенным Богом, который тоже остался чужим и – если отвлечься от немногих темпераментных срывов – был тоже замечательно учтивым и ответчивым.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу