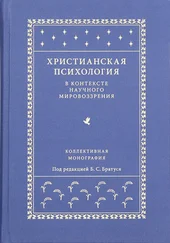Напомним, что В.И. Карасик характеризует концепты как «ментальные образования, которые представляют собой хранящиеся в памяти человека значимые осознаваемые типизируемые фрагменты опыта», «многомерное ментальное образование, в составе которого выделяются образно-перцептивная, понятийная и ценностная стороны», «фрагмент жизненного опыта человека», «переживаемая информация», «квант переживаемого знания» [3]. При этом согласимся с В.Н. Телия, которая справедливо заметила, что картина мира «не может быть выполнена в языке, незнакомом человеку». Адекватно понять и интерпретировать иносказательную поляковскую прозу может человек, переживший вместе с его героями ту или иную ситуацию. Знаки культуры в творчестве Ю. Полякова позволяют носителю языка вводить в свою речь выражения, точно отражающие культурологическую концептосферу этноса в конкретный социально-исторический момент: «С возрастом я понял: мало знать истину, нужно еще иметь луженное горло, никогда не лопающееся терпение и крепкую, как нейлоновая удавка, нервную систему»; «Сила характера не в том, чтобы ломать других, а в том, чтобы сломать себя!» «Сначала врагом объявляется тот, кто против нас, потом тот, кто не с нами, потом тот, кто не поспевает за нами, потом тот, кто справа или слева. И так до бесконечности»; «Хорошего человека должно быть много» и др. Меткие высказывания поляковских героев перешагнули рамки его книг. Так было с цитатами из комедии А.С. Грибоедова, произведений А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя.
Прецедентный текст в неизменном виде используется для номинации стандартных смыслов, хорошо известных всем русскоговорящим. Эти цитаты вызывают вполне определенные ассоциации. К прецедентным текстам обращаются рекламодатели, политики, журналисты. Известно воспоминание М. Цветаевой о том, как она, будучи четырехлетней девочкой, на объявление кондуктора конки: «Кузнецкий мост», − громко сказала: «И вечные французы!» Пассажиры на слова ребенка отреагировали дружным смехом. Афористика Ю. Полякова также отзывается в сознании его современников вполне определенно. Таким образом, можно заключить, что прецедентный текст как ключевая единица русской языковой картины мира – это ментальный феномен, глобальная семантическая единица, существующая в индивидуальном сознании в виде определенной структуры, в которую включены комплексы признаков предмета или явления, обозначенного прецедентным текстом, образованным на различных основаниях и отражающим его понимание отдельной личностью, а также целым языковым коллективом. Этот ментальный феномен является к тому же ключевой единицей, в которой отображается ведущий способ познания мира индивидом.
Семантика, культурные коннотации и устойчивость мотивационных моделей позволяют утверждать, что смысловое ядро концепта прецедентный текст становится смыслообразующим основанием современной российской культуры. Индивидуальное имя «Юрий Поляков» становится символом, знаком переломных событий современной истории России, смутного безвременья и тотально пропагандируемого отречения от великого, но неоднозначно безоблачного прошлого. Не случайно повести, романы Ю. Полякова все чаще становятся предметом научных исследований. Молодые диссертанты анализируют специфику функционирования конструкций экспрессивного синтаксиса прозы Ю. Полякова.
Можно с уверенностью сказать: Юрий Поляков как человек-концепт – феномен законченный, самодостаточный, приспособленный не столько для обозначения конкретного лица, персонажа своего романа или описанной им ситуации, места или явления, вполне узнаваемых современниками, сколько для обозначения характеристик некого знака, символа, определенных качеств, событий и человеческих судеб, обуславливающих четкие коннотации. Каждая историческая эпоха выстраивает свой вариант значимых событий и порождает плеяду прецедентных имен с представлениями о качествах той или иной личности, которой это имя принадлежит. Юрий Поляков как поэт, писатель, публицист, общественный деятель является концептом литературно-художественным, публицистическим, социальным, личностным. На концепты все ориентируются. На людей-концептов тем более. Артур Шопенгауэр утверждал, что «самый распространенный вид гордости – национальная гордость» [6]. Ю. Поляков ставил и ставит острые вопросы, заставляющие задуматься над происходящим. Но он никогда не подыгрывал «новым князьям» только для того, чтобы остаться на плаву. Так, в своем интервью «Московскому комсомольцу» от 6 декабря 2010 г. «непрозападный прозаик» Ю. Поляков скажет: «Вообще в отношении к прошлому у нас торжествует антиисторизм… потому что мы пытаемся смотреть на «Аврору» с яхты Абрамовича. Для нас карточная система – кошмар, а вот для людей, переживших голод и войны, – спасение. У нас, кстати, карточки отменили в 47-м году, а в Англии – в 50-е годы».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Коллектив авторов Испытание реализмом [Материалы научно-теоретической конференции «Творчество Юрия Полякова: традиция и новаторство» (к 60-летию писателя)] обложка книги](/books/402269/kollektiv-avtorov-ispytanie-realizmom-materialy-nauchno-teoreticheskoj-konferencii-tvorchestvo-yuriya-polyakova-tradiciya-i-novatorstvo-k-60-letiyu-pisatel-cover.webp)