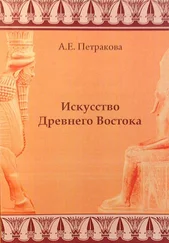То же касается и инопии, имитирующей детское невинно-наивное, «первозданно-первобытное» отношение к миру. Ребенок говорит: «Деревья делают ветер». Потому что не знает причинно-следственной связи. Или как недоумевает киплинговский медведь Балу после битвы с бандерлогами: «И как только они не разорвали меня на сто маленьких медвежат?» Это есть не что иное, как инопия-олицетворение. Или из милновского «Винни Пуха»: «Я бывают разные». Здесь наивно раскрывается значение личного местоимения. Инопией можно считать и столь поразившее А. П. Чехова «Море было большое» из сочинения гимназиста.
Инопия в нейминге почти не используется, тогда как обаяние этого образа огромно — и для детей, и для взрослых. Настольными книгами неймеров должны быть хрестоматийные детские авторы (Л. Кэрролл, А. Милн, У. Блэйк, С. Маршак, К. Чуковский, Саша Черный и др.), а также так называемые обэриуты (Д. Хармс, Н. Заболоцкий, Н. Олейников), отчасти тексты Вен. Ерофеева и даже «Вредные советы» Г. Остера. Все это — особый метафорический, образный мир, содержащий массу принципиально новых ключей к решению нейминг-проблем. Пока же нейминг-метафорика эксплуатирует узкий круг устоявшихся приемов, примерно так же, как острят в «Аншлаге».
Нейминг активно эксплуатирует внешнюю образность, связанную не столько с лексической стороной слова, сколько с фонетической или графической. Это каламбур, использование омонимии, латинизация кириллицы (части или целого слова) или, наоборот, кириллизация латиницы, игра со шрифтом и т. д. («ДОстояние РЕспублики», «Свежая УtРечка», «Антикваръ», «Хэн-дэ Хох», «БУКЕТиЯ», «Natasha», «оНООСНенные фрукты» и т. п.), создание же нового, свежего лексического образа — дело намного более трудоемкое, чем игра с внешней формой.
Наконец, в связи с разбором нейминг-метафорики надо отметить еще один прием создания образа, которым нейминг почти не пользуется, — это нарушение законов лексической (семантической) сочетаемости.
В строгом смысле термина, лексическая сочетаемость не связана напрямую с метафорой. Метафора — осознанное (пусть даже и притворяющееся неосознанным) порождение переносного лексического значения. Закон семантической сочетаемости — это правило, по которому слова «имеют право» выбирать друг друга в тексте. Нарушение такого правила есть, с одной стороны, ошибка (как, впрочем, и метафоры — тоже ошибка, хотя и другого сорта), но, с другой — потенциальный образ.
Правило семантической сочетаемости гласит: чтобы слова могли сочетаться, они должны иметь общий компонент значения, общую сему. Сема (от греч. sema — знак) — минимальная единица содержания в языке, компонент семемы. Если ее нет, они не «имеют права» сочетаться. Например, слово «после» имеет временное значение, а слово «Родина» — пространственное. Словосочетание «на двенадцатую ночь после Родины» не имеет права на существование в нормативном языке, кодифицированном стандартном дискурсе. Но гениальный русский писатель Андрей Платонов пишет: «На двенадцатую ночь после Родины они проснулись». Речь идет о том, что герои едут на поезде. «Неправильно» соединив «временное» и «пространственное» слова, он породил образ движения. Сказать «после Мальдивов я полетел на Ибицу» — это безобразно и неинтересно, потому что тут уже есть «слово движения» («полетел»), а вот название книги М. Цветаевой «После России» содержит в себе крупицу образа.
Практически вся проза того же А. Платонова построена на планомерном нарушении законов лексической сочетаемости. У Платонова этот прием представлен очень густо («посмертное лицо», «две поздние предсмертные мухи», «я искуплю тебя», «чистоплотный дом», «свободомыслящая походка», «счастье полностью случилось с ним», «медленное нагорье» и т. д. и т. п.). Особенно емко «свертывает» потенциальную образность родительный падеж («плач озлобления», «глядел с интересом изучения», «делали с интересом удовольствия», «лежал в сухом напряжении сознательности»).
Ключевые, наиболее частотные нейминг-слова (скидка, акция, распродажа, выгода, предложение и проч.) вместо надоевших (горячий, эксклюзив, мега, супер) и прочих атрибутов, давно уже ставших даже не этикетными, а шаблонными, клишированными «нейминг-канцеляризмами», могут приобрести в качестве «образной пары» сотни инопий, катахрез и неправильно сочетающихся слов. Чем плохи «нежная распродажа» (она же — «бархатная», «самоцветная» — какая угодно в зависимости от того, что распродается, когда, где и т. д.), «всегда свежая плитка», «выгода года», «скидка судьбы» и т. п.? Мы нисколько не настаиваем на «гениальности» предложенных моделей, но, безусловно, это направление образотворчества сулит многое.
Читать дальше
![Владимир Елистратов Нейминг: искусство называть [учебное пособие] обложка книги](/books/394466/vladimir-elistratov-nejming-iskusstvo-nazyvat-u-cover.webp)