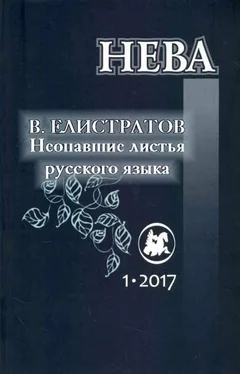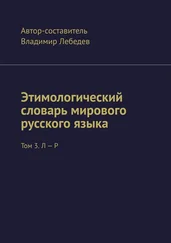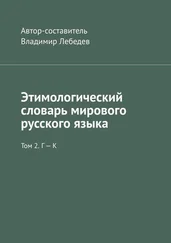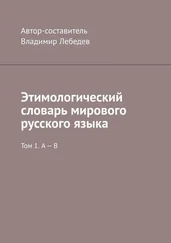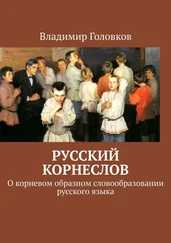«Глухость» — это безразличие, невнятность, смутность, непроявленность, беспросветность: «глух к чужому горю», «глухое эхо», «глухое недовольство», «глухой тупик», «глухой забор», «заглохший пруд». В сущности, «глухость» — это некое затухание, иссякание, иначе говоря — смерть.
Выходит, «глупость» занимает огромное пространство между «глум» и «глух».
Что же получается? С одной стороны, глупость — это смех (то есть одно из самых ярких проявлений жизни), с другой — «обезжизнивание», смерть. Ничего себе диапазон!..
Но на самом деле так оно и есть. Не случайно в русском фольклоре, в русской народной фразеологии нет однозначной оценки глупости. Да, быть глупым плохо, но есть и совсем другие интерпретации глупости, например: «Глупый да малый правду говорят», «Глупый про себя согрешит, а умный многих соблазнит», «Лучше быть глупым, да добрым, чем умным, да злым».
Нет, мы отнюдь не утверждаем, что глупость — это хорошо.
Мы хотим сказать лишь о том, что глупость — не так однозначна и плоска, как может показаться на первый взгляд.
К тому же хорошо известно (эта мысль в разных формах выражалась многими выдающимися людьми), что по-настоящему умный человек не считает себя умным, но никого и никогда не называет глупым, а глупый всегда считает себя умным, а всех вокруг считает глупцами.
Вот такая диалектика.
Значение слова «государство» в современном русском языке по сравнению с тем, каков его (слова) реальный потенциал, чрезвычайно узко. Можно сказать — убого. Оно — как ссохшийся до размеров несъедобного ореха некогда сочный и вкусный плод.
Сейчас «государство», если сформулировать значение слова максимально просто, — это 1) социально-политическая организация общества и 2) страна с такой организацией.
В обыденном языковом сознании государство в его первом значении, как правило, — обезличенная сила, которая воспринимается либо как «вынужденное зло», либо (что реже) как «добрый волшебник».
В любом случае «государство» противопоставлено человеку. Оно — словно бы принудительный ассортимент. Что-то вроде языческого божка: его надо бояться, но вместе с тем от него ждут и защиты, и даров.
Но ведь в этом слове, в его истории заключено множество совершенно иных, очень глубоких и мудрых смыслов.
Слово «государство» еще триста лет назад обозначало процесс, а не данность, результат. Оно было не статично, а динамично. То есть можно было сказать, к примеру: «Наше государство проходит хорошо».
Государство — это не просто пространство с определенной системой (хорошей или плохой) его управления, но и время, произрастание, становление и т. п. А кроме того — действие, усилия, процесс правления. Словом — жизнь. А не просто безликая сила, по своей неясной воле использующая по отношению к нам то кнут, то пряник.
Далее: слово «государство» (а иначе — «господарство») связано со словами «государь», «господарь», «господь», «господин» и т. д. То есть с личностью. Причем и со Сверхличностью Бога, и с конкретным частным лицом.
Очень важно понять, что «государство-господарство» — это не «монархия», не «царство» (ср. зачин русских сказок «в некотором царстве, в некотором государстве…»), а именно «Личностное Пространство-Время».
Господин — это и глава государства, и глава семьи, и хозяин, и супруг, и собственник чего-либо.
Вполне возможно, что слово «господь» у наших предков (и не только у наших, но и у других индоевропейцев) обозначено гостеприимного хозяина, то есть состояло из двух корней «гость» + «хозяин». Здесь заложена та идея, которая впоследствии будет выражена А. С. Пушкиным в крылатом выражении «все флаги в гости будут к нам».
Некоторые историки языка связывают корень «господь» и со словом «свобода». Что очень показательно и симптоматично.
Государство — это живое личностное (и открытое для других личностей) пространство и время свободы и гостеприимства.
Если мы научимся понимать это слово именно так, то будем жить в совсем другом государстве.
«Грусть-тоска меня съедает…» — пишет А. С. Пушкин в «Сказке о царе Салтане». И пишет, как всегда, очень точно. Почему? Сейчас разберемся.
Грусть — это чувство уныния, легкая щемящая печать, душевная тревога, тоска.
Вообще: «уныние», «тревога», «печаль», «тоска», «грусть»-«горесть», «кручина», «скорбь» и т. д. — все эти слова вроде бы близки, синонимичны, но, с другой стороны, каждое из них передает что-то свое. «Скорбь» — это явно когда кто-то умер. Собака явно не может «кручиниться», а «тосковать» — может вполне. «Уныние» — смертный грех, а «тревога» — нет. В «тоске» слышится отчетливо что-то скучное, а в «печали» скуки явно нет. И т. д.
Читать дальше