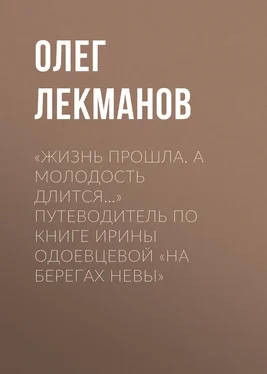Мы спускаемся по Бассейной. Они оба идут меня провожать. Расстоянием мы в те дни не стеснялись. Гумилев живет в «Доме искусств» на Мойке, Георгий Иванов – на Петербургской стороне. Но разве это далеко? По дороге мы заходим в «Дом литераторов». Снаружи обыкновенный особнячок. Но за ним зеленый запущенный сад. Чудный, душистый, совсем деревенский сад. Мы садимся на скамейку под липой. Гумилев улыбается. Он очень доволен. Георгий Иванов хвалит его манеру обращаться с учениками.
– Как это ты сумел, Николай Степанович? Ты не только их учитель и друг. Они просто влюблены в тебя.
Гумилев кивает:
– Да, теперь я, наконец, нашел правильную манеру. Играя с ними, я приношу им не меньше пользы, чем лекциями. Поэт непременно должен уметь радоваться и веселиться. Веселье и радость вдохновляют. Я же сам писал:
Пленительно поет печаль,
Но радость говорит чудесней [51] Неточная цитата из пьесы “Дитя Аллаха” (1917). У Гумилева: “Пленительно взывает грусть, / Но радость говорит чудесней” (122, т. 3, с. 132).
.
Вот я и стараюсь дать им побольше этого чудесного разговора. Ведь печали у них и так достаточно.
Он задумывается на минуту, вынимает из кармана свой большой черепаховый портсигар и закуривает папиросу.
– А до чего я вначале не умел обращаться со своими учениками! До чего я был резок и даже бесчеловечен. Оттого-то я и был тогда так непопулярен. Сейчас у меня много способных учеников. Я их сам создаю сочувствием и поощрением. А прежде резал их, как армянин барашка. Чик – голова долой! Как им было не ненавидеть меня?
– Неужели ты их действительно – чик! голова долой? Как не похоже на тебя. И как забавно.
Георгий Иванов смеется, но мне совсем не смешно. Мне – на минуту – становится очень грустно, очень больно. Ведь и меня Гумилев чуть было чик! голова долой, чуть не зарезал, как барашка. И чудо, что не зарезал. Это было давно – больше двух лет тому назад. Два года – огромный срок в молодости. К тому же эти два года, с хвостиком, были совсем особенные, до неузнаваемости изменившие и меня и мою жизнь. Да и была ли у меня какая-нибудь жизнь, то, что можно считать жизнью, до поступления в «Живое слово»?” (271, с. 80–82).
Возможно, в этом фрагменте (и далее в НБН – см. с. 325) подразумевается такой анекдот: “Армянин говорит барашку: «Ты не бойся, я тебя не больно зарежу! Чик – голова долой!»”
С. 34 …ритмической гимнастикой по Далькрозу. – Швейцарский композитор и педагог Эмиль Жак-Далькроз (Emile Jaques-Dalcroze; 1865–1950) разработал специальную систему ритмической гимнастики, в которой жесты должны были стать идеальным внешним воплощением музыки. Соответственно, ученики Далькроза стремились координировать движения тела с музыкальным ритмом. В Институте живого слова система Далькроза послужила основой первой ступени занятий ритмической гимнастикой, программу которой составили актриса Нина Павловна Писнячевская и Н.В. Романова (36, с. 113).
С. 34 Кони возглавлял ораторское отделение… – Юрист Анатолий Федорович Кони (1844–1927) читал в Институте живого слова курсы теории и истории ораторского искусства, а также специальный курс по этике общежития. Однако деканом ораторского отделения Института живого слова был адвокат Яков Самуилович Гурович (1869–1936); подробнее о нем см.: 36, с. 100.
С. 35 Я поступила, конечно, на литературное отделение. – В журнальной публикации отрывков из НБН далее следовало пояснение: “к Гумилеву <���…> И как я его ждала!” (271, с. 82, 83).
С. 35… слушала Луначарского, читавшего курс эстетики… – Нарком просвещения РСФСР в 1919 г. действительно читал в Институте живого слова курс “Введение в эстетику” (см.: 36, с. 106).
С. 35 Независимо от отделения… Юрьев, Железнова, Студенцов и, главное, Всеволодский. – Преподававший на театральном отделении Института живого слова Юрий Михайлович Юрьев (1872–1948) был одним из ведущих актеров Александринского, а позднее Большого драматического театров. Нина Михайловна Железнова (1899–1972) и ее муж Евгений Павлович Студенцов (1890–1943) были учениками Юрьева. Их актерская карьера также связана с Александринским театром.
С. 35… к “великому исправителю речевых недостатков” актеру Берлинду. – Еще одному ученику Юрьева и актеру Александринского театра Константину Николаевичу Берляндту (1880–1929) при публикациях НБН не везло. В журнальном варианте он был неправильно назван Берлиным (271, с. 83), на что О. указал Марков. В письме к нему от 22 мая 1968 г. О., оправдываясь, воспроизвела фамилию актера по-другому, но тоже неправильно: “Конечно, Берлянд, а не Берлин – это «досадная опечатка»” (427, с. 507). Наконец, в первом русском издании НБН (а вслед за ним и во всех изданиях) Берляндт превратился в Берлинда (286, с. 21).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу