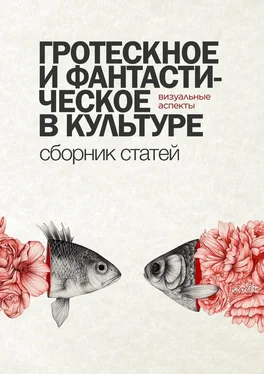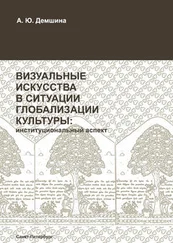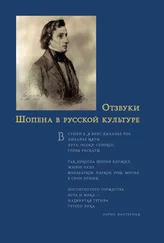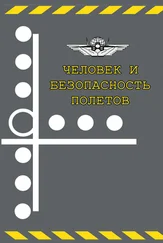Помимо «явной» или «прямой» фантастики, связанной с вторжением в обычный ход жизни каких-либо сверъестественных сил, в литературе романтизма продолжает развиваться так называемая мнимая или «завуалированная» фантастика, когда, по словам Ю. В. Манна, «прямое вмешательство фантастических образов в сюжет <���…> уступает место цепи совпадений и соответствий с прежде намеченным и существующим в подсознании читателя собственно фантастическим планом» 37 37 См.: Манн Ю. В. Поэтика Гоголя. М., 1988. С. 58.
, открывающая широкие возможности для развития фантастики в реалистическом искусстве. Примеры «завуалированной» фантастики встречаются как в творчестве западноевропейских («Песочный человек» (1817) Э. Т. А. Гофмана), так и русских романтиков («Лафертовская Маковница» (1825) А. Погорельского, «Латник» (1831) А. Бестужева-Марлинского, «Антонио» (1840) Н. Кукольника, «Упырь» А. Толстого (1841)).
«Разветвлённая система завуалированной фантастики» (Ю. В. Манн) лежит в основе поэтики «Пиковой дамы» (1833) А. С. Пушкина и «Портрета» (1833—1834) Н. В. Гоголя. В литературе реализма завуалированная фантастика имеет место у Ф. М. Достоевского («Братья Карамазовы» (1879—1880), Т. Манна («Доктор Фаустус» (1947) и т. д.
Интересна в этом отношении эволюция фантастического в поэтике Гоголя. Как показано в работах Ю. В. Манна, если в ранних его произведениях инфернальные силы активно вмешиваются в действие, то в других произведениях участие подобных персонажей отодвигается в мифологическую предысторию, в настоящем же временном плане остается лишь «фантастический след» – в форме различных аномалий и роковых совпадений. Ключевое место в развитии гоголевской фантастики занимает повесть «Нос», где субъект инфернального зла (и соответственно персонифицированный источник фантастики) вообще устранен, однако же оставлена сама фантастичность «необыкновенно-странного происшествия».
В литературе реализма, объявившего жизненную достоверность главным критерием художественности, а произведение искусства – «образным аналогом живой действительности» (В. И. Тюпа), фантастическое, манифестируя себя, может приобрести дополнительный (аллегорический, метафорический) смысл. Так, в начале повести О. де Бальзака «Шагреневая кожа» (1830—1831) сначала проявляются необычные свойства кожи. Однако затем этот образ расширяет свой семантический объём, становясь «метафорой жизни, метонимией желания», так как «осуществление желаний ведёт к смерти». С точки зрения Цв. Тодорова, это не аллегория в чистом виде, потому что буквальный смысл образа не исчезает: сохраняются колебания между естественным и сверхъестественным объяснением происходящего 38 38 Тодоров Ц. Указ. соч. С. 50.
.
Одной из форм фантастического в литературе реализма становится форма сна, приобретающая свои художественно-смысловые функции. Как отмечал Б. В. Томашевский, в фантастическом повествовании «обычными мотивами, дающими возможность двойной интерпретации, являются сон, бред, зрительная или иная иллюзия и т.п.» 39 39 Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. Л., 1927. С. 146.
. Сон может стать иррациональным откровением о мире и человеке (сон Татьяны в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин»), не поддающимся рациональной расшифровке (невозможность истолковать сон по соннику Мартына Задеки), словом самого бытия. Сон демонстрирует связь героини со стихийной, таинственной, скрытой, непознаваемой первоосновой жизни (отсюда наличие балладной фантастики во сне Татьяны). В такой ситуации «остановки мира» (К. Кастанеда), «усыпленья дум и чувств» герои, по словам С. Н. Бройтмана, «непосредственно созерцают личность – идею другого („замысел о нём Бога“)» 40 40 Бройтман С. Н. Указ. соч. С. 242.
. Если в жизни Татьяна пытается найти слово, которым можно было бы извне определить Онегина, то во сне «„Слово“ <���…> не найдено, а, скорее, дано без всяких поисков. Герой есть то, что он есть, и никакие определяющие <���…> словесные формулы к его сущности ничего не прибавляют» 41 41 Тамарченко Н. Д. Типология реалистического романа. Красноярск, 1988. С.95.
.
Фантастической логике подчинены сны героев Ф. М. Достоевского: «…перескакиваешь через пространство и время и через законы бытия и рассудка и останавливаешься лишь на точках, о которых грезит сердце» («Сон смешного человека» (1877)). С точки зрения Бахтина, сон у Достоевского – это «возможность совсем другой жизни, организованной по другим законам, чем обычная („иногда прямо как „мир наизнанку“) “ 42 42 Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М. 1979. С. 171.
. Жизнь, увиденная во сне, заставляет героя, взглянуть на собственную жизнь другими глазами, изнутри другой жизни; тем самым иначе оценить его настоящую жизнь, „в свете увиденной во сне иной возможности“ (Бахтин): см. сон Раскольникова об убийстве лошади. „Пороговые“ сны героев Достоевского, в которых создаётся „невозможная в обычной жизни исключительная ситуация“, имеют целью испытание идеи и человека идеи» и восходят к традициям мениппеи (её основным разновидностям: «сонной сатире», «фантастическим путешествиям» с утопическим элементом“ 43 43 См. об этом: Там же. С. 171.
). В. Захаров различает фантастические сны (предсмертный сон Свидригайлова, сны Алёши, Мити и Ивана в „Братьях Карамазовых“) и сны, не имеющие отношения к „сновидческой фантастике“ (сон Прохарчина в рассказе „Господин Прохарчин“, два сна Мышкина в „Идиоте“, два сна Аркадия Долгорукого в „Подростке“, сон Голядкина в повести „Двойник“) в произведениях Достоевского. По словам Захарова, „в этих снах на первый план выступает не философское, а психологическое содержание, которое не разрушает «простой целостности образа героя» 44 44 Захаров В. Н. Концепция фантастического в эстетике Ф. М. Достоевского // Художественный образ и историческое сознание: межвузовский сборник. Петрозаводск, 1974. С. 110.
. К образцам нефантастического сна в русской реалистической литературе можно отнести и сон Обломова 45 45 Подробно о формах сна см.: Федунина О. В. Поэтика сна (русский роман первой трети ХХ в. в контексте традиции). М., 2013.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу