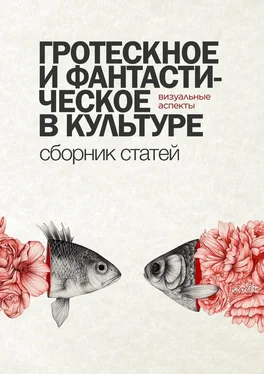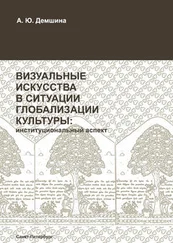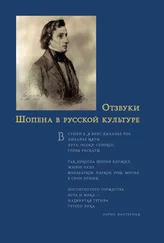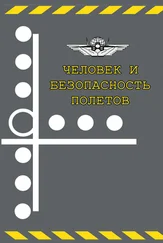В раннем европейском средневековье фантастическое представлено в народных сказаниях, легендах и поверьях. «Поэтика чудесного» активно проявилась в средние века в рыцарском эпосе («Беовульф», VIII в.). Важную роль в становлении фантастического приобретают истории о рыцарях Круглого стола короля Артура, которые трансформировались в сюжеты многочисленных рыцарских романов («Парцифаль» (ок. 1182); романы Кретьена де Труа; «Смерть Артура» Т. Мэлори (1469)). Особое распространение рыцарский роман как жанр получает в европейской литературе XII в., см. романные циклы: артуровский, или бретонский (романы об Ивейне, Гавейне, Ланселоте и др.); античный, генетически связанный с греческой и римской эпопейной традицией («Роман об Александре» (XII в.), «Роман о Трое» (XII в.) и др.); цикл о святом Граале, где христианские образы и ценности переплетались с мифопоэтическими традициями кельтских преданий. Как отмечал М. М. Бахтин, в рыцарском романе «весь мир становится чудесным, а само чудесное становится обычным (не переставая быть чудесным)», причём герой «так же чудесен, как этот мир: чудесно его происхождение, чудесны обстоятельства его рождения, его детства и юности, чудесна его физическая природа и т. д. Он – плоть от плоти и кость от кости этого чудесного мира, и он лучший его представитель». Фантастический мир рыцарского романа характеризуется сказочным гиперболизмом времени: «растягиваются часы и сжимаются дни до мгновения, и самое время можно заколдовать; появляется здесь и влияние снов на время <���…> сны уже не только элемент содержания, но начинают приобретать и формообразующую функцию, как и аналогичные сну «видения» 25 25 Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М.:, 1975. С. 302, 304.
.
Фантастические мотивы рыцарских романов активно разрабатываются в ренессансных поэмах «Влюбленный Роланд» (опубл. 1506) Боярдо, «Освобожденный Иерусалим» (1580) Т. Тассо, «Королева фей» (1590—1596) Э. Спенсера, «Неистовый Роланд» (1516) Л. Ариосто (в последней рыцарь Астольф, подобно героям Лукиана, совершает один из первых в мировой литературе космических полетов на Луну). Фантастическое, пронизанное христианской апокрифической символикой, проявляется также и в средневековой драме (ауто, литургическая драма, мистерия), и в жанре видений, связанном с традициями «Апокалипсиса» Иоанна Богослова.
Значимую роль в становлении поэтики видений сыграли произведения, в которых разрабатывались мотивы «Метаморфоз» Овидия – «Роман о Розе» Гильома де Лорриса и Жана де Мена (XIII в.), а также визионерская фантастика – «Видение о Петре-пахаре» (1362) У. Ленгленда, «Божественная комедия» (1307—1321) Данте. «Вытянутая по вертикали» фантастическая картина мира Данте и образы ее языческой и апокрифической христианской демонологии были унаследованы Дж. Мильтоном («Потерянный рай» (1667), «Возвращенный рай» (1671)).
В фольклорной смеховой культуре позднего средневековья и Ренессанса мощное развитие получает гротескная фантастика, опирающаяся на архаические – мифопоэтические и фольклорные – традиции (как, например, в анонимном памятнике народной культуры средневековья «Киприанов пир»). Гротескная фантастика характеризуется тремя чертами: смешением разнородных областей природы, безмерностью в преувеличениях и умножением отдельных органов. «Свободная игра телом» в гротескной фантастике стирает границу между физическим и ментальным, материальным и духовным, вещественным и словесным, субъектным и объектным: амбивалентные (двуединые) «события гротескного тела всегда развертываются на границах одного и другого тела, как бы в точке пересечения двух тел: одно тело отдает свою смерть, другое – свое рождение, но они слиты в одном двутелом (в пределе) образе» 26 26 Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная смеховая культура. М., 1990. С. 357.
. Многочисленные средневековые «бестиарии», истории о путешествиях как действительных (Марко Поло, XIII в.), так и вымышленных (Жан де Мандевиль описывал драконов, гарпий, ликорн, фениксов и др.) изобилуют сюжетными и несюжетными миниатюрами, рассказывающими о людях, тело которых имеет гротескный образ. Особое внимание здесь уделялось описанию невиданных человеческих существ, отличающихся «смешанным», деформированным или трансформированным телом (например, гиппоподы, ноги которых снабжены копытами, сирены, циноцефалы, лающие вместо того, чтобы говорить, сатиры, оноцентавры, великаны, карлики, пигмеи; люди, наделенные разнообразными уродствами: сциоподы, имеющие одну ногу, леуманы, лишенные головы, с лицом на груди; люди с одним глазом или на лбу, или на плечах, или на спине; шестирукие люди и т.п.). Все это, как писал Бахтин, – «необузданное гротескное анатомическое фантазирование, столь излюбленное в средние века», «нарушение всех границ между телом и миром» 27 27 Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле… С. 382, 384.
. Важное значение традиции гротескной фантастики приобретают в романах «Гаргантюа и Пантагрюэль» (1533—1564) Ф. Рабле и «Дон Кихоте» (1605—1615) М. Сервантеса.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу