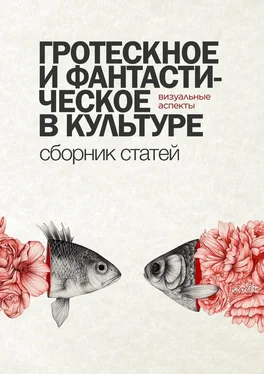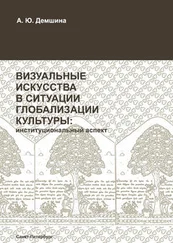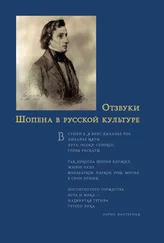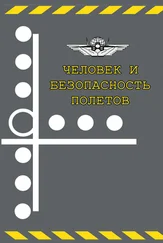Во второй разновидности жанра, так называемом «черном» романе («Ватек» У. Бекфорда (1786), «Влюбленный дьявол» Ж. Казота (1772), «Монах» М. Г. Льюиса (1796), «Эликсиры сатаны» Э. Т. А. Гофмана (1816), «Мельмот Скиталец» Ч. Р. Метьюрина (1820)) фантастика оказывается глубоко мотивированной особенностями конфликта, выраженного в борьбе добра со злом. Соответственно, фантастическое носит тут отнюдь не мнимый характер: сверхъестественные силы действуют как реально существующие и сражающиеся с человеком 32 32 Подробнее о фантастическом в готическом романе см., например: Григорьева Е. В. Готический роман и своеобразие фантастического в прозе английского романтизма: дисс. … канд. филол. н. Ростов на Дону, 1988; Gibson M. The Fantastic and European Gothic History, Literature and French Revolution. Cardiff, 2013 и др.
. Кроме того, в «черном» романе фантастическое начинает взаимодействовать со страшным и чудовищным.
Таким образом, в предромантизме иррациональное и фантастическое постепенно занимают свое место в культуре. Скажем, именно в это время выходит цикл «Фантастические путешествия, сны, видения и каббалистические романы» (1770—1780), насчитывающий несколько десятков томов 33 33 См. об этом: Жирмунский В. М., Сигал Н. А. У истоков немецкого романтизма // Уолпол Г. Замок Отранто; Казот Ж. Влюблённый дьявол; Бекфорд У. Ватек. М., 1967. С. 265.
.
В эпоху предромантизма и романтизма подвергается переосмыслению аристотелевский тезис о том, что искусство есть «подражание прекрасной природе». Воображение трактуется романтиками как сила, преобразующая мир в предмет искусства, проявление абсолютной творческой свободы художника, а художественный мир – как «свобода связываний и сочетаний» (Новалис). Вместе с этим, романтическая эстетика непосредственно ориентирована на фольклорные первоисточники фантастического – романтики собирали, изучали и обрабатывали волшебные сказки и легенды («Народные сказки Петера Лебрехта» (1797) В. Тика; «Детские и семейные сказки (1812—1814) и «Немецкие легенды» (1816—1818) братьев Я. и В. Гримм), что в значительной степени повлияло на интенсивное развитие жанра литературной сказки. Наиболее яркие образцы использования поэтики фантастического в литературной сказке демонстрирует творчество Х.-К. Андерсена.
В это же время категория фантастического впервые подвергает эстетическому осмыслению, в первую очередь, в статьях Вальтера Скотта «О сверхъестественном в литературе и, в частности, о сочинениях Эрнста Теодора Вильгельма Гофмана» (1827) и Шарля Нодье «О фантастическом в литературе» (1831). Таким образом, фантастическое становится признанным и осознанным явлением литературной действительности, которое уже не требует (как это было в некоторых готических романах) «извинений» перед читателем, оговорок и признаков стилизации под «темное средневековье».
Фантастический хронотоп в романтических произведениях (так называемое «романтическое двоемирие»), унаследованный от средневековой «эстетики чудесного» и готической поэтики сверхъестественного, возникает на основе игры пространственно-временными планами («Генрих фон Офтердинген» (опубл. 1802) Новалиса), проницаемости границ между сном и явью, реальностью и воображением (фантасмагорический мир Петербурга у Гоголя), контактов с «иными», потусторонними, мирами и их носителями («Ленора» Г. Бюргера (1773), «Людмила» В. Жуковского (1808)). Э. По, развивая традиции европейских романтиков в своих «новеллах кошмаров и ужасов», обращается к поэтике фантастического с целью показать абсурдную двойственность и непостижимость бытия. Фантастическое в его произведениях проявляет себя как атрибуция то философской притчи, то фантастической аллегории, то психологической новеллы или гротескной пародии. Э. По принято считать и родоначальником «научной фантастики» («История Артура Гордона Пима» (1838); «Низвержение в Мальстрем» (1841)).
Творчество Э. Т. А. Гофмана – своего рода энциклопедия романтической поэтики фантастического. В нем органично переплелись традиции готического романа («Эликсиры сатаны» (1815—1816) и литературной сказки («Щелкунчик, или Мышиный король» (1816), «Повелитель блох» (1822)), а в рассказе «Пустой дом» (1817) персонажи прямо рассуждают о роли воображения в видении реальности и о соотношении ч у дного и чудесного. Фантастическое у Э. Т. А. Гофмана наиболее отчетливо проясняет романтическую репрезентацию реальности, порождаемой «трансгрессией взгляда» (Цв. Тодоров), «гротескной культурой глаза», которую М. М. Бахтин связывал с особым отношением героя и автора к страшному: «Мир романтического гротеска в той или иной степени страшный и чуждый человеку мир. Все привычное, обычное, обыденное, обжитое, общепризнанное оказывается вдруг бессмысленным, сомнительным, чуждым и враждебным человеку. Свой мир вдруг превращается в чужой мир. В обычном и нестрашном вдруг раскрывается страшное» 34 34 Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле… С. 47.
. С одной стороны, гротескно-фантастический способ видения преодолевает «узкий рассудочный рационализм, государственную и формально-логическую авторитарность, стремление к готовости, завершенности и однозначности, дидактизм и утилитаризм, наивный и казенный оптимизм и т.п.» 35 35 Там же. С. 45.
. С другой, «романтическая гротескная культура глаза», по М. М. Бахтину, становится предельно камерной, интровертной. Именно поэтому фантастическое отмечено в произведениях романтиков «культурой минус-зрения» (В. Н. Топоров), определяющей романтический «лимит видения» (Н. Я. Берковский). Так, в «Принцессе Брамбилле» (1820) и «Песочном человеке» (1817) Гофмана появление элемента сверхъестественного сопровождается введением сюжетно-композиционных элементов темы взгляда (в мир чудесного можно проникнуть с помощью очков, зеркал и т. п. визуальных инструментов). Как отмечал Ц. Тодоров, с миром чудесного в романтической фантастике связан не сам взгляд, а символы непрямого, искаженного, извращенного взгляда, каковыми являются очки и зеркало. «Эти предметы – в некотором смысле материализованный, непрозрачный взгляд, квинтэссенция взгляда. Та же плодотворная двусмысленность присутствует и в слове „визионер“ (visionnaire); это человек, который видит и не видит, представляя собой одновременно и высшую степень, и отрицание видения» 36 36 Тодоров Ц. Указ. соч. С. 91—93.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу