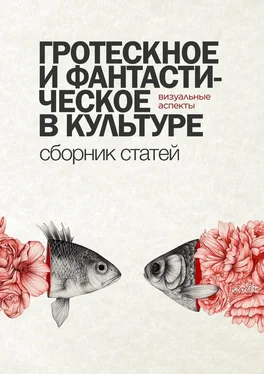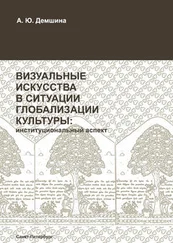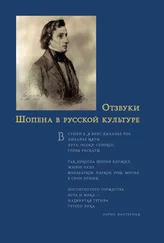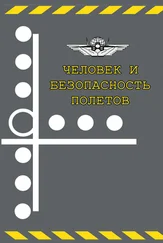В эпоху Ренессанса поэтика фантастического связана с жанром утопии, для которой особое значение приобретает допущение реализации идеального общества. Один из первых образцов утопического жанра представлен в главе «Телемское аббатство» романа Ф. Рабле, произведениях Т. Кампанеллы, Т. Мора, Ф. Бэкона. В сатирическом романе С. де Бержерака «Иной свет, или Государства и империи Луны» (1656) разрабатываются традиции Лукиана: мотивы утопии сочетаются с авантюрным сюжетом – путешествием героя в идеальное государство на Луне, в котором живут библейские персонажи (пророк Илья, патриархи, Енох).
Мотив фантастического путешествия в плутовском романе А. Р. Лесажа «Хромой бес» (1707) в определенной мере подготавливает эстетику фантастического в философской сатире эпохи Просвещения – романах Д. Свифта о Гулливере (1726), повести Вольтера «Микромегас» (1752) (здесь встречается одна из первых в мировой литературе историй о концептуальном перевороте, связанном с прибытием на Землю инопланетян), романе Д. Дефо «Консолидатор, или Воспоминания о различных событиях в лунном мире» (1705), где представлен полет на Луну на механическом летательном аппарате, движимом «святым духом».
В эстетической рефлексии классицизма, которая завершала эпоху эйдетической поэтики, фантастическое осмысливалось как феномен «ложной» образности (см. подробнее об этом в работе Р. Лахманн 28 28 См. об этом: Лахманн Р. Фантазия versus мимезис. О дискурсе «ложной» образности в европейской литературной теории / пер. Н. Борисовой // Analysieren als Deuten. Hamburg, 2004. S. 167—185.
), противостоящей эстетическим принципам традиционалистской художественной культуры, которая вслед за Аристотелем интерпретировала искусство как сугубо миметический акт. Творческая необходимость правдоподобия в искусстве фиксируется в целом ряде поэтических манифестов европейских классицистов (А. Минтурно, Л. Кастельветро, Ж. Шаплен) и обусловлена тяготением традиционалистского искусства к «панлогизму, замкнутости и готовости» (С. Н. Бройтман). Свобода, «несоразмерность», алогичность фантастических образов, выход в область неизведанного может нарушить изначально рационально задаваемые границы и пропорции «образа мира».
В отличие от эпохи эйдетической поэтики, чрезвычайно важное значение фантастическому придаётся в поэтике художественной модальности.
Существенную роль в становлении этой категории сыграл готический роман, во многом и возникший в противовес рациональности и рассудочности классицизма и Просвещения. Основатель жанра Г. Уолпол писал в предисловии ко второму изданию «Замка Отранто»: «В этом произведении была сделана попытка соединить черты средневекового и современного романов. <���…> Не желая стеснять силу воображения и препятствовать его свободным блужданиям в необъятном царстве вымысла ради создания особо занятных положений, автор вместе с тем хотел изобразить действующих в его трагической истории смертных согласно с законами правдоподобия» 29 29 Уолпол Г. Замок Отранто: готическая повесть / пер. В. Е. Шора // Фантастические повести / Г. Уолпол, Ж. Казот, У. Бекфорд У.. Л., 1967. (Литературные памятники). С. 11—12.
. Таким образом, «воображаемый мир» постепенно проникает в литературу, но пока нуждается еще в «оправданиях» со стороны автора, нарушающего классицистические законы правдоподобия. Так, в самом начале развития жанра, необходимость введения фантастического элемента объяснялась стилизацией: очень часто роман выдавался за подлинную средневековую рукопись («Замок Отранто» (1764) Г. Уолпола, «Старый английский барон» (1778) К. Рив, «Подземелье, или Матильд» (1794) С. Ли), а люди в средние века верили в «чудеса, призраки, колдовские чары, вещие сны и прочие сверхъестественные явления», потому «в средневековом романе все было фантастичным и неправдоподобным» 30 30 Там же. С. 12, 8.
. Следовательно, и новый роман об этой эпохе должен содержать элемент фантастического. Г. Уолпол писал: «Вера во всякого рода необычайности была настолько устойчивой в те мрачные века, что любой сочинитель, который бы избегал упоминания о них, уклонился бы от правды в изображении нравов эпохи. Он не обязан сам верить в них, но должен представлять своих действующих лиц исполненными такой веры» 31 31 Там же. С. 8.
.
В дальнейшем развитие фантастического в готическом романе шло двумя путями. В сентиментально-готическом романе («Старый английский барон» К. Рив (1778), «Полночный колокол, или Таинства Когенбургского замка» Ф. Лэтома (1798), произведения А. Радклиф, С. Ли, А. Маккензи и др.) сверхъестественное является не столько внутренне обусловленным, сколько внешним украшением, антуражем, вызванным необходимостью более точной стилизации (не случайно носители суеверий – обычно люди из народа) или тем интересом, который вызывало фантастическое у читателей. Очень часто, особенно в романах А. Радклиф, все таинственные явления в конце получают вполне естественное объяснение (например, привидение оказывается девушкой в белом платье, полуразложившийся труп – восковой фигурой, потусторонние звуки – песней заключенного в подземелье и т.п.), то есть фантастика оказывается мнимой.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу