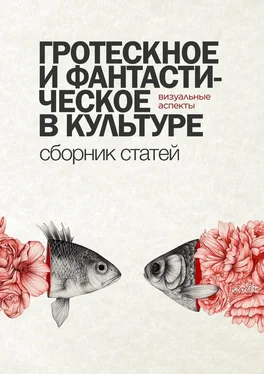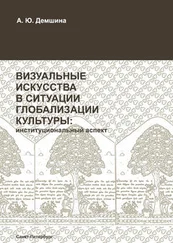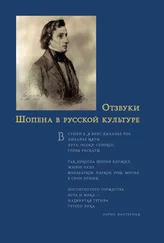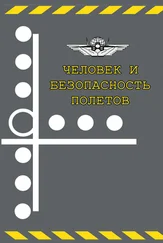В литературе модернизма фантастическое связано (в разной степени) с традициями романтического гротеска (А. Жарри, сюрреалисты, экспрессионисты и др.).
Фантастическое в литературе ХХ века в определенном смысле связано с поэтикой допущения. По словам Б. В. Томашевского, «если народные сказки и возникают обычно в народной среде, допускающей реальное существование ведьм и домовых, то продолжают свое существование уже в качестве некоторой сознательной иллюзии, где мифологическая система или фантастическое миропонимание (допущение реально не оправдываемых „возможностей“) (разрядка наша. – С.Л., В.М., А.П. ) присутствует как некоторая иллюзорная гипотеза. На таких гипотезах построены фантастические романы Уэллса, который довольствуется обычно не целой мифологической системой, а каким-нибудь одним допущением, обычно непримиримым с законами природы» 46 46 Томашевский Б. В. Указ. соч. С. 671.
.
Так, например, фантастическое в сюрреалистическом романе «Пена дней» (1947) Б. Виана основано на допущении, что человеческие эмоции материализуются и оказывают непосредственное влияние на природное окружение человека: меланхолия и депрессия вызывает увядание цветов, дожди, землетрясения и другие катаклизмы. Возможными становятся миры, в которых резко изменились масштабы и пропорции («Квадратурин» С. Кржижановского (1926); гротескно-абсурдный мир Д. Хармса в повести «Старуха» (1939); хронотоп героя может выстраиваться аналогично сну и кошмару (новеллы Ф. Кафки; гротескные фантасмагории в кафкианском духе в творчестве К. Абэ: «Человек-ящик» (1973)).
Допущения характерны и для продуктивных в литературе ХХ века жанров утопии (И. Ефремов «Туманность Андромеды» (1956); трилогия «Страна багровых туч» (1959), «Возвращение» (1962), «Попытка к бегству» (1962) А. и Б. Стругацких) и антиутопии, возникающей как реакция на жанр утопии: «Мы» (1920) Е. Замятина, «Чевенгур» (1929) А. Платонова, «Скотный двор» (1945) Д. Оруэлла, «О дивный новый мир» (1932) О. Хаксли; элементы жанра антиутопии находим у В. Набокова («Изобретение Вальса» (1938)) и М. Булгакова («Собачье сердце» (1925), «Роковые яйца» (1925)). Антиутопии зачастую создают не только образы фантастических миров, но и фантастических языков (часто со своей системой грамматических правил), «обслуживающих» эти миры («1984» (1948) Д. Оруэлла; «Тлён, Укбар и Tertius orbis» (1940) Х. Л. Борхеса), помогающих «перевёртывать все существенные для человека понятия» (Р. Гальцева, И. Роднянская).
В такой разновидности антиутопии, как дистопия (антиутопия, демонстрирующая реализацию утопии) фантастическое связано с постижением читателями мира, «в котором им никогда не будет места». ««Нигде» будет заселено Никем – или никем из нас… Конец романа «Мы» – это конец нас…» 47 47 Морсон Г. Границы жанра: антиутопия как пародийный жанр // Утопия и утопическое мышление. М., 1991. С. 251.
. Для жанра антиутопии эстетически продуктивна гротескно-фантастическая образность, связывающая его с традициями философской сатиры (Р. Акутагава «В стране водяных» (1927)).
Образ полнокровного «мира», пренебрегающего «границами возможного» (Н. Д. Тамарченко), создаёт авантюрно-философская фантастика ХХ века (более распространены, прежде всего в литературной критике, понятия «научная фантастика» и «фэнтези»). Основные структурные элементы организации мира и сюжетные мотивы авантюрно-философской фантастики формировались в произведениях Ж. Верна и Г. Уэллса. Одним из ранних образцов авантюрно-философской фантастики может считаться роман «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» (1889) Марка Твена.
Фантастика ХХ века активно использует сюжетные схемы литературы приключений, создавая свои варианты «географической» приключенческой сказки (Дж. Р. Р. Толкин «Хоббит» (1937) и исторического романа (И. Кальвино «Несуществующий рыцарь» (1959)). Необходимым условием развития сюжета в авантюрно-философской фантастике является встреча («контакт») двух миров (людей и существ, людьми не являющихся): произведения А. Азимова, Ф. Брауна, Р. Брэдбери, Р. Желязны, К. Саймака, Р. Шекли, А. и Б. Стругацких и др. В авантюрно-философской фантастике ХХ века испытанию подвергается сама природа человека (те качества, которые делают человека человеком). Поэтому события жизни героев в мире «за гранью возможного» «программируются» не сюжетной схемой произведения (как это имеет место в волшебной сказке), а являются результатом ценностного, ответственного выбора героя. Отсюда близость авантюрно-философской фантастики жанру притчи.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу