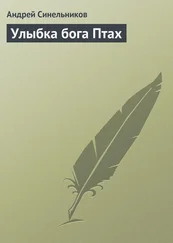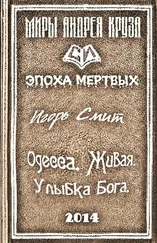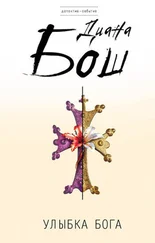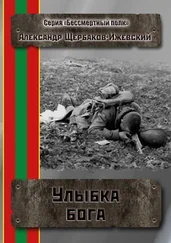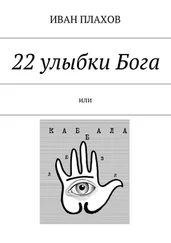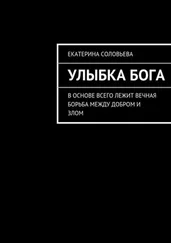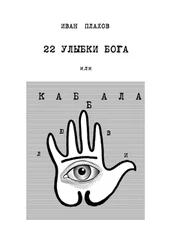Носовой чувствует себя неуверенно в этой позиции и в африканских наречиях. Он или выпадает как в mohu– т.ж. (хланангу), или метатезируется в mhunu– т.ж. (ронга). Вероятно, была и б–форма ( bůnhu), о чем говорит закрытосложный термин unhu– т.ж. (рожи и намбзья). С большей уверенностью можем предполагать – могла существовать и форма bůn–ti– 1) «люди», 2) «мужик», 3) «великий муж», развившаяся в суперэтноним bůntu > bantu.
В лексическом гнезде должны быть представлены угро–финнские ban–ti > an–ti > hantyи man–ti > mansi— 1) «человек», 2) «люди», ставшие этнонимами.
…Становится понятно, почему go–pa– «пастух», а go–pati– «старший пастух» (санскр.). Возвеличение придаётся элементом di/ -ti. Как и в gos–podi. Появление этого форманта произвело переворот в форме терминов родства.
Новые старшие
Теперь, когда этимолог вооружен «знаковым методом» ( отражение иероглифа в слове) и знанием системы закономерностей сознательного (грамматического) и механического изменения формы лексемы, ему по силам приблизиться к «истинному значению».
I
Самые трудные слова из любого языка, любой древности поддаются знаковой этимологии. А самыми трудными, безусловно, являются самые простые, «детские речения» – тавтологические термины родства. И те, в которых удваивается начальный слог ( bů-/ mů-) и те, где мы видим удвоение второго слога ( -di / -ti).
Если звукоподражательность слова «мама» как–то ещё можно объяснить связью со звуками сосания, причмокивания, и логичной коммуникацией значений в лат. mamma– 1) «материнская грудь», 2) «кормилица», 3) «мать», то трудности, мы видели, возникают уже с «папой» и, тем более, никак не связаны с сосанием – «тётя», «тятя», «дядя»… Эти термины, скорее, напоминают иные звуки. Сытый пращур поужинал мамонтом. Ковыряется зубочисткой, посвистывает, прогоняя воздух сквозь частокол костедробящих резцов. Не только в славянских звучат эти цыкающие термины: tēthē– «бабушка», tēthis– «тётя», tata, tetta– «отец» (греч.), dede, d¬d¬, dada– «дед», tete, t¬te– 1) «старшая сестра, тётя», 2) «старший человек в роду» (независимо от пола), ҹeҹ, šeše– «бабушка», «матерь» (тюрк.).
В балтских: tēta– «батюшка» (лтш.), tetґ— «тётя», tētis– «батюшка», dede– «дядя» (лит.). В жем. диалекте titis– «отец».
В картвельских: deda– «мать» (груз.), dida(мегр.), dida– «бабушка, старая женщина» (чан.), di– «мать» (сван.). Но, dede! – «мама!» (сван.). Как и груз. dedi! – «мама!».
Г.А.Климов проводит параллели из абхазско–адыгских и нахско–дагестанских языков: dede– «мать» (хинал.), dida(будуг.), dide(лезг.), dada(лакск.). И заключает: « В индоевропейском языке dhe–dh(ē) было символическим обозначением старших членов семьи » 28 . А как оно возникло? Без восстановления знака можно лишь несколько расширить круг сопоставимых структур. Понимание наступает по мере расшифровки сложного картвельского образования di–mtil– «свекровь» (сван.), dia–mtir– «теща, свекровь» (мегр.).
Климов: « Древнее сложение… состоит из deda – «мать» и компонента неясного происхождения mtil»29 .
Как называли новых старших, вступивших в родство? В разных культурах по–разному. И в технике образования термина отражается отношение к Новому старшему. Славянское: тесть( test’), тьсть(ст. — слав.), тъст(болг.), тєст(серб., хорв.), test(чеш.), cieнє(пол.), test(в. — луж.) производят от tisties– «тесть» (др. — прус.), но, в виду одинокости этой формы в балтских, прусское слово, скорее всего, заимствовано из славянских. Младенов, Ильинский производят от – тəтя, Шрадер–Наринг связывают с греч. tetta– «батюшка, отец» (Илиада 4, 412).
…По–моему, славянская форма otets’– «отец» переразложилась в каком–то диалекте в a–tets> a–test’, и методом отрицания отрицания образуется антоним -test’– «не отец». Прибавлением флексий жен.рода test’-aпроизводят – тёща. (Сочетание st’ в русских диалектах часто превращается в щ : «блестит» > «блещет», «свистит > «свищет», «известие» > «извещение».)
Тесть и тёща – не отеци не мать. Такое отношение складывалось изначально. (Несколько поправилось отношение к Новым старшим термином «свекровь» – «своя кровь». От неё – «свёкр».)
Читать дальше