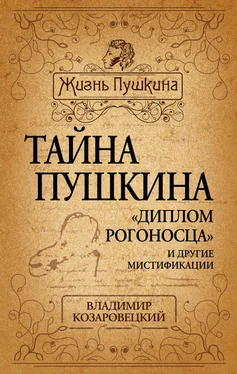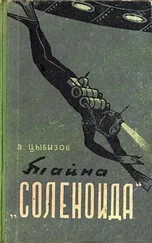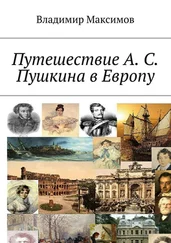«Нарышкин — великий магистр ордена рогоносцев — стал рогоносцем по милости императора Александра, пошел, так сказать, по царственной линии, — писал П. Е. Щеголев в книге „Дуэль и смерть Пушкина“. — И первую главу в истории рогоносцев историограф должен был начать с императора Александра. Начать… а продолжать?
Мне думается, составитель диплома и продолжения хотел бы тоже по царственной линии. Если достопочтенный великий магистр был обижен в своей семейной чести монархом (Александром I. — В. К.), то его коадъютору, его помощнику г-ну Александру Пушкину, историографу ордена, кто нанес такую же обиду, кто сделал его рогоносцем?.. Не в императора ли Николая метил составитель пасквиля? Для ответа не нужно искать данных, удостоверяющих факт интимных отношений царя и жены поэта, достаточно поставить и ответить положительно на вопрос, могли ли быть основания для подобного намека».
Щеголев прекрасно знал, что таких оснований было куда больше, чем для какого бы то ни было намека на интимные отношения Натальи Николаевны с Дантесом. Существует множество свидетельств того, что фаворитизм при дворе русских императоров не только был схож с нравами французских или иных прочих монархов, но и отличался «простотой нравов». Вот описание привлечения в «царский гарем», приведенное в той же книге Щеголева:
«Царь — самодержец в своих любовных историях, как и в остальных поступках; если он отличает женщину на прогулке, в театре, в свете, он говорит одно слово дежурному адъютанту. Особа, привлекшая внимание божества, попадает под наблюдение, под надзор. Предупреждают супруга, если она замужем; родителей, если она девушка, — о чести, которая им выпала. Нет примеров, чтобы это отличие было принято иначе, как с изъявлением почтительнейшей признательности. Равным образом нет еще примеров, чтобы обесчещенные мужья или отцы не извлекали прибыли из своего бесчестья» .
Пушкинская преддуэльная ситуация была общеизвестна, но не потому ли никто не смог достойно отобразить ее художественно, что в том виде, как понимали тогда и потом, вплоть до выхода книги Петракова, эту историю (с Дантесом, стоящим на коленях перед Натальей Николаевной и обещающим застрелиться, если она ему откажет, и тому подобной литературной чепухой), она была банальной, а истинной трагедии никто так и не разглядел? И почему ближе всего к действительности это удалось сделать Нестору Кукольнику, написавшему драму «Гоф-юнкер», в которой он изобразил реальную придворную ситуацию с перечисленными прототипами? В драме принц назначает главного героя гоф-юнкером, чтобы получить «доступ» к его сестре, и это назначение приводит того в шоковое состояние, в котором он только и способен издевательски повторять: «Я — гоф-юнкер?!» — и которое весьма напоминает бешенство Пушкина, в какое его привело известие о производстве в камер-юнкеры. Сам ли Кукольник догадался о том, что происходило с Пушкиным и вокруг него, или обладал достоверной информацией? И если обладал, то откуда, от кого он ее получил?
Пушкина и Кукольника связывали непростые отношения: с одной стороны, поэт над Кукольником подшучивал, иногда — довольно зло: известна его ироническая реплика по поводу убогости «кареты» Кукольника (в письме к Н.Н. от 30 апреля 1834 г.) или по поводу его творчества: «А что, ведь у Кукольника есть хорошие стихи? Говорят, что у него есть и мысли» и «В Кукольнике жар не поэзии, а лихорадки», а Николаенко в свое время прислал мне неизвестную пушкинскую эпиграмму:«Он Нестор именем, а Кукольник — делами». Тем не менее, после первого знакомства с ним Пушкин заметил: «Он кажется очень порядочныймолодой человек». Пушкинские эпиграммы на людей, которых он близко не знал, не раз ставили его в неловкое положение: познакомившись ближе, он жалел о словах своих экспромтов, сорвавшихся с языка из-за мгновенно возникшего желания сострить, и его остротами в адрес Кукольника нас не удивить. Но почему Пушкин выделил в его характере именно эту черту ?
«В 1893 году в Таганроге ростовская газета „Юг“ разыскала свыше 40 писем из переписки Пушкина с женой и с Кукольником, — писал Николаенко. — Тогда об этом писали и другие газеты… П. И. Бартенев по поводу находки ограничился общими рассуждениями, и то через полгода. В его „Русском Архиве“ (1894) можно прочесть: „Что-то сомнительно!“ А почти через 20 лет, в 1912 г., незадолго до своей смерти, тот же Бартенев в рецензии на 3-й том „Переписки Пушкина“ под редакцией Саитова глухо намекнул на возможность публикации писем Н. Н. Пушкиной к мужу в далеком будущем» .
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу