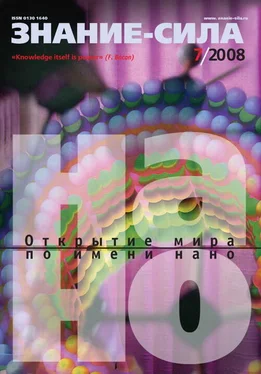Эту гипотезу подкрепляет рассказ близкого сотрудника Ландау, Льва Питаевского, о следующих выборах 1958 года. Накануне выборов Ландау произнес: «Решено — буду голосовать за Зельдовича». Питаевский изумленно спросил: «А разве были какие-то сомнения в его научном уровне?!» На что Ландау ответил: «Нет, по науке никаких сомнений не было, но академик — должность общественная, для которой важны моральные качества, и тут как раз сомнения были. Но я побеседовал с Зельдовичем, и он дал удовлетворившие меня объяснения».
На выборах 1958 года Зельдович таки стал академиком, вопреки партийному противодействию. За несколько недель до выборов из Отдела науки ЦК наверх ушел донос о «неправильной обстановке» в Отделении физико-математических наук, когда беспартийные ученые противопоставляют «партийному влиянию свой высокий научный авторитет, в особенности при решении кадровых вопросов». «В особенно тяжелом положении», сообщал донос, оказались такие физики, как Терлецкий Я.П., которые «по своим научным заслугам... уже давно должны были быть избраны в Академию наук, однако вследствие необъективного отношения к ним со стороны академиков Ландау, Тамма и Леонтовича они практически не имеют шансов быть избранными». А академик И.В.Курчатов, вместо того, чтобы продвигать правильные кандидатуры, на предстоявшие выборы выдвинул Я.Б.Зельдовича, который — «беспартийный, еврей... по своей общественной деятельности близок к группировке академика Ландау, известен своим национализмом, нигилистическим отношением к методологическим проблемам и необъективным отношением ко многим советским ученым». Поэтому — немудрено — в поддержке Зельдовича «наиболее активна группа, возглавляемая академиком Ландау, который является откровенным националистом (т. Ландау по национальности еврей) и, по данным КГБ, проявляет антисоветские настроения».
Истории не известно, какие чувства двигали пером доносителя, что он именовал «общественной деятельностью» физиков и как совмещал «национализм» с подслушанной тем же КГБ, осенью 1953 года, фразой Ландау: «Насколько египтяне вызывают восхищение, настолько израильтяне являются гнусными, подлыми холуями. Все мое сочувствие на стороне египтян полностью... Израильтяне меня возмущают. Я, как безродный космополит, питаю к ним полнейшее отвращение».
Важно, однако, что беспартийный еврей Зельдович был благополучно избран академиками беспартийными и партийными, евреями и не очень. И значит, антисемитов в Академии было не так уж много. Значит, академики в основном выдержали тест, о котором Андрею Сахарову сказал его учитель Игорь Тамм: «Есть один безотказный способ определить, является ли человек русским интеллигентом, — истинный русский интеллигент никогда не антисемит; если же есть налет этой болезни, то это уже не интеллигент, а что-то другое, страшное и опасное».
Очень может быть, что высокопартийный доноситель и не был настоящим антисемитом, а просто, желая достичь своей цели, выбрал средства, наиболее действенные, по его разумению, для тогдашнего руководства страны. Подобные примеры известны, и поскольку цель не достигалась, то они говорят, скорее, о неповоротливости ума доносителей и о поворотливости линии партии в еврейском вопросе.
Зато высокопартийный донос достиг цели, нужной нашей истории с биографией, — подтвердил разгадку неизбрания Зельдовича в 1953-м. Осталось лишь узнать содержание беседы с ним Ландау, чтобы понять, как именно рассеялись моральные сомнения. Впредь до открытия соответствующих документов КГБ я бы предположил, что Ландау потребовал от Зельдовича объяснить конкретные слова и действия в начале 50-х, которые он, Ландау, оценил тогда как недопустимое вторжение в его личную научную жизнь. Из объяснений Зельдовича Ландау, видимо, понял, что тогда, в начале 50-х, он не понимал Зельдовича по той причине, что мерил его своим аршином. Вряд ли он объяснял Зельдовичу свое отношение к советской власти, и Зельдович так никогда и не узнал об этом, он умер в 1987-м, за несколько лет до конца советской власти, что и открыло советские архивы. А если бы дожил, то, вполне возможно, и не поверил бы архивным документам, подобно многим его коллегам.
Сходное и даже большее взаимонепонимание разделило Зельдовича с Сахаровым двадцать лет спустя. Их научное общение было особенно близким в период совместной работы на Объекте (1950—1963 гг.). В конце 60-х годов, на переломном рубеже жизни Сахарова, он считал Зельдовича своим ближайшим другом. Тем тяжелее было ему убедиться, что Зельдович совершенно не понимает его включение в правозащитную деятельность. В данном случае, в отличие от тайного антисоветизма Ландау, взгляды и поступки Сахарова были широко открыты. И Зельдович их открыто не одобрял. Он совершенно не понимал, как человек столь мощного научного таланта может променять теоретическую физику высшего класса на внеклассную защиту прав каких-то татар вернуться на свою крымскую родину, прав других покинуть свою родину и прав третьих молиться богу каким-то своим бог-знает-каким способом... И вряд ли Зельдовича впечатляло, что среди множества высокопарных деклараций в мировой политике имеется и Декларация прав человека (подписанная, кстати, в 1948 году и сталинским уполномоченным в ООН). Ему, по существу, дорого было лишь одно право — свободно заниматься физикой. И не так важно — исследовать ли законы ядерного взрыва или Большого Вселенского взрыва, лишь бы задача была интересной.
Читать дальше