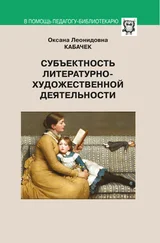Светлая смерть порождает катарсис; катарсис, по Аристотелю, — привилегия жанра трагедии («Поэтика»). Настоящее (неразвлекательное, немассмедийное) искусство, творчество как духовный акт может быть понято как искупление : «Подлинное искусство есть форма „точной“ молитвы ‹…› форма жертвоприношения, в этом его, искусства, смысл. ‹…› Художник ‹…› искупает миры. Копает колодец, возможно, в ад, — и выворачивает его наизнанку, чтобы получить колокольню.
<���лакуна> особенно спорить. Так вот искусство — это тоже форма жертвоприношения, в этом его, искусства, смысл. Именно это влечет за собой отчасти спорное преобладание эстетики над этикой. Художник должен делать что? Он искупает миры. Копает колодец, возможно, в ад, — и выворачивает его наизнанку, чтобы получить колокольню.
Мир должен быть искуплен, а не сотворен и описан.
Платонов в той же мере имморален, как и Бабель. Где в „Чевенгуре“ мораль? Там нет никакой морали, там вообще ничего нет, кроме великой литературы.
Мир должен быть искуплен, а не сотворен и описан» [56].
Таким искупителем, жертвой и являлся первоначально творец-синтетик скоморох, священнодеятель на просторах универсума.
Он вечно в дороге, в пути, в процессе изменения. Смехом побеждает косность и мертвенность земного мира — и самого себя.
Смеховой мир не может оставаться неподвижным; он весь в движении [81;38]; обнажается суть (ср.: при смехе пропадает бинокулярная конкуренция и исчезает зрительная иллюзия [45]).
К скомороху гораздо ближе не юрод, который не увеселяет, а учит [105], но арлекин: он «мечтатель, идеалист, оттого наивен и беспомощен. За показным равнодушием и неловкостью, неотесанностью, он прячет тонкий ум, меткую речь и убийственную иронию. Но выглядит Арлекин смешно ‹…› Он все время получает побои, „колотушки“ и насмешки» [8].
А если неловкость его не показная?
Сравним скомороха и арлекина с носителем одного специфического варианта личностного развития; точнее, примерим, впору ли тому шутовской колпак: подходят ли его психологические данные для трудного дела смехотворчества — совершенствования себя и мироздания.
«Наибольшее удовлетворение, душевный подъем связан для таких людей с принесением личной жертвы» [100;332]. «…Фон постоянного эмоционального дискомфорта во взаимодействии, чувство постоянной неловкости. ‹…› Дезавтоматизация процесса общения может привести к общей неровности субъекта в контакте — порывистости и застенчивости, тормозимости. Неустойчивость личной дистанции создает впечатление его неловкости, даже неестественности в контакте, постоянных действий „невпопад“» [100;334–336]. Это человек с повышенной чувствительностью уровня эмоционального контроля, одаренная личность так называемого аутистического спектра [100].
Издавна такие сверхчувствительные, ранимые и совестливые люди уходили в монастыри, в схиму, затвор, тихую праведную жизнь «на обочине».
Или в искусство. Которое не только создает безопасное пространство-буфер, щит, помогающий личности вписаться в среду, но и, косвенно, гармонизирует жизнь, воспитывая зрителей-слушателей. Так в художественной деятельности (как и, например, в деятельности милосердия и молитвы), реализуется нравственная миссия одаренных людей с повышенной чувствительностью (только подобная миссия способна пробудить в них силы, иногда необыкновенные, и примирить с грубостью жизни [100]).
Не позиция ли это романтика (уходящего от страшного быта-бытия в игру, творчество), описанная В. Обуховым [103]? А, может быть, своеобразного, вывернутого наизнанку, дублера святого? И скоморошничанье — особый вид, другая ипостась (сторона) религиозного искусства? Не тот ли это предел, к которому, в сущности, стремился В. Набоков (пытаясь воплотить его в авторском, а не фольклорном варианте)?
…Именно искусство задает конвенциональные спасительные формы и границы общения шута-скомороха с публикой, дает возможность спрятать за нелепыми по роли движениями («скачет, прыгает» [81;17]) природную неуклюжесть (а иногда и ритуальные нелепые движения, действия [100]) исполнителя-аутиста.
Ролевое поведение, выученная бойкость, отрепетированный мажор.
При этом «он что-то ищет в небесах / и плачет по ночам» (И. Бродский. Шествие.)
Другой аспект экстрасенсорики, тоже связанный с повышенной чувствительностью и также очень полезный для художественной деятельности, — уникально организованное сенсорное восприятие, отличающееся мультимодальностью, при которой различные сенсорные возможности дополняют друг друга [31;105].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
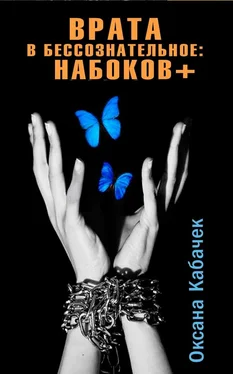
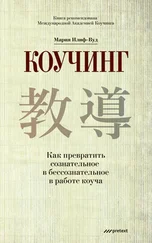
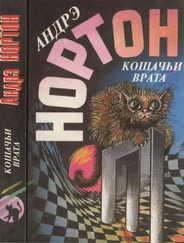





![Карл Юнг - Архетипы и коллективное бессознательное [litres]](/books/398004/karl-yung-arhetipy-i-kollektivnoe-bessoznatelnoe-thumb.webp)