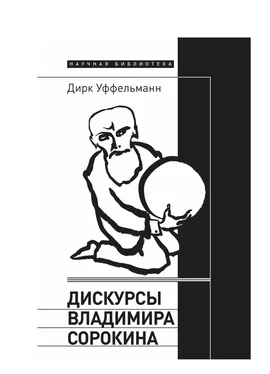Тексты Фаллачи, Саррацина, Уэльбека и Чудиновой отличаются от постапокалиптических романов Сорокина, потому что эти авторы изображают дистопическое — а не постдистопическое — будущее. Сорокин в метадистопиях 2013 и 2017 годов рисует постдистопическое будущее как свершившийся факт, мир будущего уже после того, как исламская революция завершилась и утихла, /7ос/77исламистскую Европу. Примечательно, что в «Теллурии» и «Манараге» об исламофобской дистопии, предрекаемой правыми алармистами и писателями-циниками, говорится в прошедшем времени. Эта особенность позволяет провести четкую границу между постисламизмом Сорокина как метадискурсом и метадистопией и собственно исламофобскими дискурсами.
В «Манараге» временная дистанция, показывающая, что алармистская исламофобия осталась в прошлом, усиливается за счет старомодной любви рассказчика к печатному слову. К постисламизму добавляется, таким образом, консервативный элемент, в результате чего возникает сложная картина антиглобалистской ксенофобии. На самом деле исламофобия — кросс-европейский феномен, но в «Манараге» исламофобский дискурс призван подчеркнуть неприятие реакционной идеологией транскультурности. Сорокин показывает, что исламофобские дистопии тесно связаны с негативным отношением к глобализации и современности и с недовольством транскультурными достижениями. Во многом подобно Уэльбеку, Сорокин деконструирует антитранскультурное сознание рассказчика, библиофила и приверженца структурного консерватизма, создавая вокруг Гезы транскультурный мир.
Исследователи неоднократно отмечали 1280, что в книгах Сорокина, написанных в период с 2006 («День опричника») по 2013 («Теллурия») год, недалекое дистопическое будущее перемежается анахронистическими элементами, относящимися в основном к XVI и XIX векам. Достаточно бегло сравнить «Теллурию» и «Манарагу», чтобы заметить, что в обоих текстах последствия репрессивного прошлого продолжают жить в дистопическом будущем. Время после распада империи и повсеместной разрухи уже настало в будущем читателей и прошлом рассказчиков. Для рассказчиков зверства исламистов уже стали частью устной традиции, воспроизводимой в косвенной («Манарага») или прямой («Теллурия») речи, которая периодически прерывается, что способствует эффекту остранения. Поэтому эмоции, возможно испытываемые персонажами (или читателями) по отношению к исламистам, дважды оказываются подавлены: в первый раз за счет дистанции, во второй — за счет прерванного повествования.
Рассказчик (повествование ведется от первого лица) в «Манараге» глубоко растроган тем, что «парень рассказал душераздирающую историю бегства от македонских салафитов, убивших его родителей, а ему отрубивших правую руку за игру в шахматы»1281. Когда упомянутый собеседник Гезы через несколько минут воспроизводит тот же травматический дискурс, Геза усматривает в этом провокацию, а Сорокин ставит под сомнения возможность эмоциональной идентификации с рассказчиком, только что открывшуюся читателю: <.. .> он показал свой обрубок и <.. .> стал как ни в чем не бывало прогонять все ту же душераздирающую историю про бегство, родителей, салафитов и шахматы. Я внимательно прослушал ее до конца. Затем развернулся и заехал ему по морде <...>1282.
В «Манараге» повторение жертвой своего рассказа убивает эмоции. В V эпизоде «Теллурии» Сорокин пропускает страдание от жестокого обращения через призму медиа, чтобы представить его ненастоящим. Когда впервые после трех лет исламистского террора появляется возможность провести Кельнский карнавал, в повествовании возникает множество типичных штампов настойчивого трогательного воспоминания, которыми усеивают репортажи в прямом эфире журналисты. Голос Замиры, ответственной за выпуск, в наушнике репортера Рихарда пресекает поток антиисламистского пафоса:
— <.. .> Но я хочу напомнить вам именно сейчас, именно в этот радостный день, напомню, чтобы вы и ваши дети никогда не забыли, как три года назад девятнадцать транспортных «геркулесов», вылетевших из Бухары, в тихое майское утро, на рассвете, высадили в пригороде Кельна Леверкюзене десантную дивизию «Талибан». И начались три года мрачной талибской оккупации Северного Рейна-Вестфалии. <...>
— Рихард, короче! — поет в ухе голос Замиры.
— А что было потом — все мы помним: казни, пытки, телесные наказания, запрет алкоголя, кино, театра, унижение женщин, депрессия, гнетущая атмосфера, инфляция, коллапс, война1283.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу