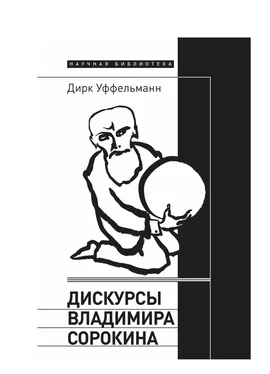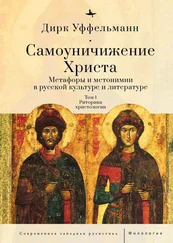Глава 7. Новые медийные стратегии и гражданская позиция Сорокина в постсоветской России
Последнему генеральному секретарю ЦК КПСС Михаилу Горбачеву (род. 1931) не удалось провести реформы, направленные на сохранение социалистического строя. Подобно ученику чародея, Горбачев уже не мог контролировать силы, которые сам же привел в движение в конце 1980-х годов. Столкнувшись с консервативной оппозицией внутри коммунистической партии (в лице, например, Егора Лигачева), глава государства вынужден был все чаще опираться на другие социальные группы вне партии, включая даже бывших диссидентов, в том числе Андрея Сахарова (1921-1989) — создателя советской водородной бомбы, а впоследствии известного правозащитника. Новая тактика поиска поддержки за пределами коммунистической партии побудила традиционалистов к действиям и привела к августовскому путчу 1991 года. Как известно, путчисты потерпели поражение, встретив гражданское сопротивление, возглавляемое Борисом Ельциным (1931-2007), тогдашним президентом РСФСР. Ельцин не упустил случая публично унизить Горбачева, который 24 августа 1991 года, через три дня после путча, сложил с себя полномочия генерального секретаря, а 25 декабря 1991 года, накануне официального распада СССР, объявил о своей отставке с поста президента621.
Конфронтация между Ельциным и теперь уже посткоммунистической оппозицией продолжалась в 1990-е годы и в сентябре — октябре 1993 года вылилась в новую попытку государственного переворота. 1990-е годы стали самым свободным на тот момент временем в российской истории622, но различные краткосрочные стратегии управления государством при Ельцине, колебавшемся между про- и антизападной политикой, не выдерживали напора резких политических и экономических изменений: перехода от однопартийной системы к демократии, от социализма — к рыночной экономике623. Как только государство перестало жестко регулировать цены и валютные курсы, испарились и гарантии, которые давала социалистическая плановая экономика. Теневая экономика позднесоветской эпохи обернулась крахом и засильем мафии, из-за чего значительная часть населения склонна воспринимать 1990-е годы как катастрофу, дискредитировавшую демократию и укрепившую потребность в новом вожде с «сильной рукой»624.
Обстановка изменилась, когда в 1999 году Ельцин передал власть тогдашнему председателю правительства В. В. Путину (род. 1952), в марте 2000 года избранному на пост президента Российской Федерации и взявшего плюралистическое медиапространство постсоветской России в ежовые рукавицы625: оппозиционные олигархи оказывались либо в изгнании (как Борис Березовский или Владимир Гусинский), либо под арестом на основании сомнительных обвинений (как Михаил Ходорковский626). Первыми жертвами пали телеканалы, транслировавшие критические передачи, следующими — оппозиционные журналисты (Анна Политковская) и, наконец, до сих пор неподконтрольный Рунет. Попытки Путина возродить былую славу Советского Союза как сверхдержавы на международной арене достигли кульминации во время вооруженного вторжения в Грузию в августе 2008 года и на юго-восток Украины с марта 2014 года. Выступления против цветных революций в Грузии и Украине должны были предотвратить аналогичный сценарий в Российской Федерации, но не остановили белоленточных протестов зимой 2011/2012 года, потерпевших поражение отчасти потому, что поддержавшие их горожане позиционировали себя как маргиналов627. Режим, травмированный протестами представителей креативного класса, в значительной мере направленными против самого Путина, начал усиленно закручивать гайки628. После несколько более либерального правления Дмитрия Медведева (2008-2012) Путин в период своего третьего президентского срока (2012-2018) продемонстрировал, по мнению некоторых политических публицистов629, не только неоавторитарные, но даже неототалитарные установки. К тому же аннексия Крыма в 2014 году привела к международной изоляции России, частично преодолеваемой лишь в силу необходимости продолжать обсуждение войны в Сирии (начавшейся в 2011 году) и других требующих внимания конфликтов по всему миру.
В 1990-е годы на фоне экономического кризиса и напряжения в обществе распалась и замкнутая группа московских концептуалистов. Многие члены кружка, когда их творчество вышло из подполья, воспользовались возможностью или вовсе эмигрировать, или по крайней мере время от времени жить за рубежом. Если в 1990-е годы Сорокин остановился прежде всего на втором варианте, — дольше всего он находился за границей, когда в 1999-2001 годах преподавал в университете в Токио, — то в начале 2010-х годов он приобрел квартиру в Шарлоттенбурге, буржуазном районе Берлина, где стал проводить все больше и больше временибЗО, лишь изредка возвращаясь в свой дом в подмосковном Внукове. Новые международные запросы и медийные возможности способствовали не только пространственному рассеянию бывших андеграундных художников, но и социальному расщеплению группы, которое, как полагает Игорь СмирновбЗ 1, Сорокин отразил в поражении секты «говорящих сердцем» в своей «Ледяной трилогии» (2002-2005). В 1993 году философы, связанные с московским концептуализмом, совместно основали собственное издательство — Ad Marginem, которое в 1998-2002 годах опубликовало большинство произведений Сорокина и даже выпустило двух- и трехтомное собрания сочинений писателя632, но разорвало с ним отношения в 2002 году, когда философ Михаил Рыклин, один из первых комментаторов текстов Сорокина, обвинил и его самого, и главного редактора Ad Marginem Александра Иванова в циничных попытках нажиться на издании книгбЗЗ. Когда Ad Marginem решилось на сомнительный шаг, начав печатать националистически настроенного Александра Проханова634, Сорокин отправился на поиски новых издателей, выбирая крупные издательские дома, такие как «Захаров» (2004-2007)635 и ACT (с 2007 года).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу