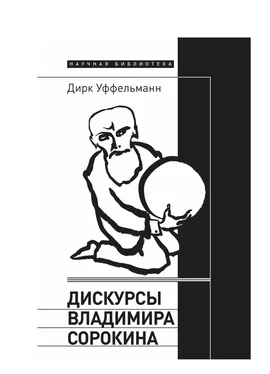В «Месяце в Дахау» автор активно обыгрывает и разные языки: немецкие фрагменты нередко вплетены в «русско-немецкий макаронизм сорокинской повести»580. Из-за своеобразного «языкового контакта»581 отдельные части текста непонятны среднестатистическому русскому читателю. Немецкие слова в повести даны в чужеродном кириллическом написании (чего нет в немецком переводе582, на основании которого Юрий Мурашов делает ошибочный вывод о «колебании» между латиницей и кириллицей583). Это указывает на то, что в тексте представлен не «настоящий немецкий», а немецкий, сконструированный антигерманской советской пропагандой и соцреализмом584.
После двадцати пяти камер, где мы слышим происходящее ушами героя и погружаемся в поток его сознания585, где нет никаких знаков препинания (и угадываются аллюзии к «Смерти Вергилия» (Tod des Vergil, 1945) Германа Броха), обычная речь ненадолго возвращается лишь в момент бракосочетания двух тоталитарных режимов, но снова исчезает, когда герой от мазохизма переходит к садизму. Драматический финал средствами условного наклонения и уничтожения языка обнаруживает воображаемую природу всех предшествующих пыток, мазохистское удовольствие от саморазрушения и извращенную советско-германскую иерогамию: я предпочел бы следующую последовательность:
1. наполне моего желуде червие обглодавше голову гретхен.
<...>
7. выстреле мой тело большая берта в неб велик германия586.
Детальные описания вымышленных гротескных пыток, мазохистских и садистских удовольствий можно истолковать метадискурсивно, как коллаж, «целиком составленный из фрагментов других дискурсов»587. Они отсылают и к советской военной литературе, и к русской диссидентской и эмигрантской критике тоталитаризма, особенно к исполненной трагизма лагерной прозе Солженицына588, создавая картину предполагаемой национальной психопатологии, преднамеренно усвоенной русскими. Интертекстуальные отсылки к этой патологии становятся совершенно очевидными, когда рассказчик выражает согласие с высказыванием философа-эмигранта Николая Бердяева: «Прав Бердяев: „Русские все склонны воспринимать тоталитарно“»589. С присущей ему склонностью к гиперболизации Сорокин материализует патологию, приписываемую как немецкому, так и советскому тоталитарному мышлению, в образах садистской жестокости и мазохистского удовольствия от истязаний. Двойная психопатология, изображаемая в повести, не более чем реализация метафоры, заимствованной, опять же, из других дискурсов, в том числе из «спора историков» (Hi st or ikerstreit), который происходил в Германии в 1986-1989 годах и участники которого, Эрнст Нольте и Юрген Хабермас, расходились во мнениях относительно вопроса, считать ли ответственность Германии за уничтожение евреев явлением исключительного характера или ее правомерно сопоставлять с ответственностью других тоталитарных режимов XX века. Переходами от мазохизма к садизму Сорокин прозрачно намекает на возможность сравнения. Метадистанцирование достигает апофеоза в метатеоретической отсылке к французскому философу-постструктуралисту Жаку Деррида, извещающей читателя, что всякий текст тоталитарен590 — но что при этом он не более чем текст: деррида прав <.. .> каждый текст тоталитарен мы в тексте а следовательно в тоталитаризме как мухи в меду а выход выход неужели только смерть нет молитва591.
Поразительно, но в интервью, говоря об отношениях России и Германии, Сорокин отказывается от металитературного взгляда, как это неоднократно происходило в 1990-е годы. В высказываниях, которыми он в интервью характеризует эти отношения, писатель даже приписывает своим литературным текстам четкие психоисторические тезисы, сводя образ двухголовой и противоречивой Гретхен из «Месяца в Дахау» к «разительному примеру немецкого садизма»592. В том же интервью, которое Сорокин дал Наташе Друбек-Майер для эрфуртского журнала Via Regia весной 1995 года, он предложил весьма схематичную дихотомию национальных психотипов:
...Отношения России и Германии напоминают любовные. Это роман представителей двух разных психологических типов: анально-садистского (Германия) и мазохистско-генитального (Россия)593.
Если этой незатейливой антитезой, не воспринимая ее совсем буквально, можно описать фабулу «Месяца в Дахау», то несколько лет спустя в пьесе, тоже посвященной тесным взаимоотношениям российского и немецкого тоталитаризма, Сорокин переворачивает эту оппозицию. Тот факт, что пьеса Hochzeitsreise («Свадебное путешествие») написана по заказу немецкой организации, настолько очевиден, что даже название осталось на немецком, а русский перевод обычно дается в сноске594. Пьеса, написанная в 1994-1995 годах, была поставлена режиссером Франком Касторфом, известным своими провокационными спектаклями, в театре «Фольксбюне» 2 ноября 1995 года, а на русском языке ее впервые опубликовал журнал «Место печати» в 1996 году595. Немецкий перевод, использованный для премьеры, вышел годом позже596. В 1998 году оригинал был переиздан в составе двухтомного собрания сочинений Сорокина597, а позже вошел в сборник пьес «Капитал»598.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу