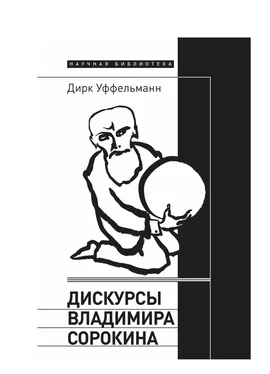В первой части «Нормы» указано, что данная практика введена советской властью, и это наводит читателя на мысль об аллегорическом истолковании этой совершенно дикой нормы: вероятно, имеется в виду то «дерьмо пропаганды», которое советские граждане обязаны глотать изо дня в день? Однако, как указывает Максим Марусенков, повествователь избегает упоминать советскую идеологию230, поэтому не исключена и другая трактовка поедания фекалий — как метафоры «экзистенциального абсурда бытия вообще»231, особенно если принять во внимание высказывания на тему человеческого существования в разных интервью автора232. Но отсылки к изменениям нормы в разные периоды, из которых ясно, что при Сталине порции (экскрементов) были больше, говорят в пользу идеологической трактовки: чем более тоталитарным становится режим, тем больше «дерьма приходится глотать гражданам»233. В таком случае противоестественное поглощение «нормы» предстает как неотъемлемый элемент советской действительности, который при этом зависит от степени несвободы.
Обязательное следование этой норме приводит к формированию относительно однородного общества людей, ко всему привыкших и научившихся мириться со всем, что навязывает им государство234. Омерзение, которое испытывает любой цивилизованный и разумный человек, сдерживается, потому что «абсурдное, противоестественное», по словам Ирины Скоропановой, изображено «как привычное, само собой разумеющееся, чего избежать невозможно»235. Парадоксальным образом банальность и избыточность поедания фекалий — испытание скорее для читательского терпения, но особо не смущает никого из выполняющих «норму».
В третьей, седьмой и восьмой частях «Нормы» на первый план выходит металитературная тенденция. В отличие от первой и пятой частей, они лишь отчасти предназначены для прочтения. Многие читатели, уловив намеренную избыточность, просто пролистают их236. В центре этих глав «Нормы» оказывается литература и ее нормы: «„главный герой" произведения — советская литература, основные жанровые и стилевые коды которой воссозданы в „Норме", так что возникает своеобразная антология ее характерных образцов»237.
Третья часть состоит из разных по стилю фрагментов реалистической прозы. Если упоминание лошади в начале вызывает ассоциацию с «Холстомером» Толстого (1886), то стилистика самого повествования колеблется между Тургеневым, Чеховым и Буниным238, а сельские мотивы вызывают в памяти позднесоветскую деревенскую прозу с ее «„патриотическим" духом»239. Возвращаясь в родную деревню, интеллигент Антон в идиллических красках вспоминает свое детство, пришедшееся на 1930-е или 1940-е годы. Антон читает письмо Федора Тютчева и понимает, что поэт приходился ему дедом, а потом обнаруживает рукописную копию самого знаменитого — и самого антирационального — стихотворения Тютчева: «Умом Россию не понять»240. Как показывает уже сам выбор этих самых хрестоматийных тютчевских строк, автор не стремится к оригинальности. Наоборот, представления о традициях русского реализма оказываются настолько стандартизованы, что два новых персонажа, которые вдруг начинают обсуждать этот фрагмент реалистического повествования, где главным героем выступает Антон, и сюжетную линию, связанную со стихотворением Тютчева, оценивают его как «нормальный рассказ»241, хотя и несколько «скучноватый» из-за предсказуемости тютчевского мотива242.
Затем мы снова возвращаемся к повествованию об Антоне, который выкапывает второй клад, где на этот раз обнаруживает рукопись, озаглавленную «Падёж» — фрагмент романа, опубликованный отдельно в 1991 году243, — и снова начинает читать. Этот отрывок, датированный 7-29 мая 1948 года, отражает поэтику социалистического реализма, но разрушает ее штампы. Описание коллективного хозяйства, при котором люди мрут, как скот, можно соотнести с «Поднятой целиной» Михаила Шолохова (1932, 1959)244 или «Котлованом» Андрея Платонова (1930)245, где автор выворачивает наизнанку соцреалистический производственный роман. Завязка этого фрагмента, из которой читатель узнает, что два начальника решили призвать к ответу председателя колхоза, не выполнившего предписанной центром нормы, вполне отвечает канонам соцреализма. Но жестокость, с какой они сжигают председателя заживо, явно говорит, что в своем социалистическом рвении они перегнули палку246. Однако два персонажа, оценивающие эту историю, не видят ничего удивительного в такой развязке: они описывают рассказ типичным для обывательских бесед о литературе эпитетом, с которым мы уже встречались во второй части «Нормы», — «нормальный»247. Но все-таки собеседники приходят к мысли, что лучше опять закопать рукопись в землю, явно испугавшись излишне натуралистичного и не отвечающего нормам изображения жестокости сталинской эпохи.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу