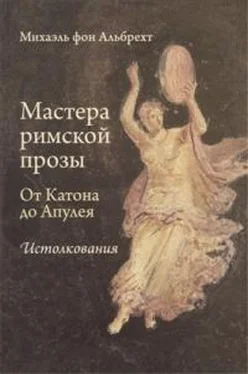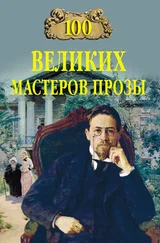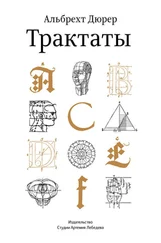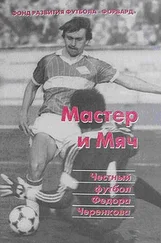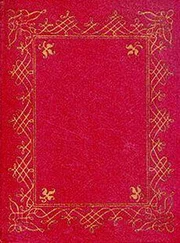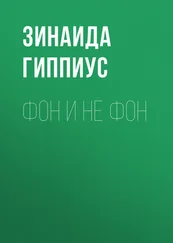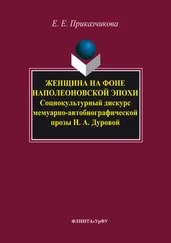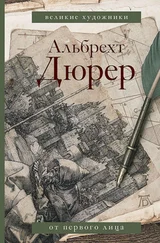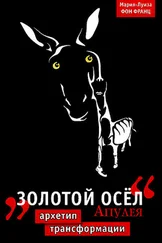Автор с удовольствием пошел навстречу инициативе Francke Verlag — сделать Мастеров римской прозы в виде карманной книжки доступными еще более широкому кругу читателей. Оправдавший себя общий замысел остался прежним. Разумеется, в текст
вошли дополнения; предназначенные для третьего издания; кроме того, были приняты во внимание письма и замечания коллег. В особенности мы благодарим профессора Герхарда Перла (Берлин), которому обязаны важными соображениями о чтении Клавдиевой надписи. И наконец — новая избранная библиография открывает доступ к научным исследованиям.
^Михаэль фон Альбрехт
Тейдельберг, зима 1994 года
Тексты, которым будет посвящена эта книга, относятся к четырем столетиям — от превращения Рима в мировую державу в борьбе с Карфагеном до позднего расцвета под властью Антонинов. Эстетическая дистанция может быть велика, но при этом в них отражается определенный процесс: сила и свежесть вначале, острота противостояния в эпоху Гракхов, сул- ланская анналистика, эпоха Цезаревых войн, вспышки духовной борьбы в последних усилиях гибнущей республики, реформы Августа с их утонченными грезами о величии праисторического времени, призывный голос проповедника и скептический — романиста перед фасадом нероновского дворца, долгожданная возможность вздохнуть полной грудью при Траяне, откровенность ро$Ьфе$Ыт и умственный комфорт образованного сословия — вторая софистика в качестве заключительного аккорда с ее экуменическим настроением и мистической подкладкой.
Пространственные рамки не менее широки — не столько даже столица, сколько Италия, Галлия, Испания, Африка; все они давали Риму писателей.
Многообразны и жанры: от дидактики через ораторскую прозу и историографию, через записки, философский диалог — к художественному письму и роману.
Выбирая из неизмеримого количества образцов, оставляешь в стороне авторов учебной литературы, юристов, произведения, написанные на канцелярском языке и не имеющие литературной обработки письма, а прежде всего — христианскую литературу; все это области, заслуживающие отдельного разговора. Но в этих заранее наложенных границах мы стремились к многообразию: наряду с общеизвестными писателями восстановлены в правах и те, кого сегодня читают меньше; среди них — тот, кем парадоксальным образом пренебрегала и наука о языке, и наука о литературе, первый римский прозаик Катон, а также Гай Гракх — один из величайших ораторов Рима. Тот, кому кажется, что для Цицерона один философский текст и два отрывка из речей — слишком мало, может обратиться к моему подробному рассмотрению цицероновского языка и стиля в Realencyklopädie Pauly-Wissowa (Suppl. XIII) и в моей книге Cicero’s Style, Leiden 2003. В остальном же — при всех усилиях дать представительную подборку — любое решение в определенной степени субъективно; мы можем сказать вместе с Квинтилианом1 : Sunt et alii scriptores boni, sed nos genera degustamus, non bibliothecas excutimus.
У нас не было намерения создать полноценную замену истории литературы или без пропусков представить развитие латинского прозаического стиля; равным образом мы не желали состязаться с монументальной Antike Kunstprosa Нордена или Orationis ratio Лемана, чьей отправной точкой в гораздо большей степени является античная теория литературы, нежели истолкования.
Наша цель и конкретнее, и скромнее: путем интерпретации показать обширные возможности римского прозаического искусства, опираясь на формально и содержательно значительные и важные тексты: нельзя и надеяться овладеть всеохватными представлениями иначе, нежели через отдельные примеры.
Особое внимание мы уделяли языку и стилю2, и прежде всего — пограничным областям между литературоведением и лингвистикой: синтаксису, стилистике, риторике, структуре повествования. Часто мы пользовались предоставлявшейся возможностью сделать видимой внутреннюю сторону риторики и восстановить ее подобающее место в античной интеллектуальной жизни — нет, риторика — не мертвый перечень технических приемов, а живая практика мышления и речи! Когда же идет речь о повествовательных текстах, мы продолжаем разрабатывать вопрос, который точно сформулирован в другом месте3, — о повествовательной структуре как «синтаксисе» не отдельного предложения, а целых текстов. Разумеется, особенности каждого текста как такового были для нас важнее рубрикации. Находясь между Сциллой детерминизма, не желающего знать ничего, кроме стиля эпохи и жанрового стиля, и Харибдой поспешных индивидуально-психологических заключений, имеет смысл еще раз сосредоточить взгляд на свободе личности и творческой уникальности произведения, не "упуская при этом из виду ни предмета, ни социального контекста.
Читать дальше