Пасторальная фигура оратая, пастуха, земледельца в поэзии предельно условна, а в прозаическом опыте Батюшкова и рассказе Бунина безмятежные земледельцы поэтических идиллий контрастируют совсем с другими крестьянами – с теми, что пережили революции (французскую – у Батюшкова, русскую – у Бунина) и последовавшие за ними войны.
«Путешествие в замок Сирей» – это одна из самых ярких русских инвектив XIX в., направленных против самого феномена революции:
«Развалины, временем сделанные, – ничто в сравнении с опустошениями революции», «Здесь не одна была революция, господин офицер! Не одна революция!.. (рассказывает путешественнику старый крестьянин в сношенном фригийском колпаке. – Е. К. ) Разорили храмы Божии…» [295].
Войны и революции представляются Батюшкову тем, что страшнее самой смерти. Если после смерти маркизы и отъезда Вольтера жизнь в замке не прервалась, напротив, стены сохранили память о своих обитателях, то революция и война стирают память об идиллическом прошлом:
…там, где маркиза прекрасною рукою поливала розы и лилеи, кормила голубей ячменем 〈…〉 там, где она любила отдыхать под тенью древних кедров у входа в Заирину аллею, где Вольтер у ее ног в восторге читал первые стихи бессмертной трагедии 〈…〉 там вы расставите часовых с ужасными усами, гренадер и казаков, которые приводят в трепет всю Францию [296].
Теневой, призрачный мир с рассветами и закатами, таинственная дорога в заброшенное имение – все это повторено вслед за Батюшковым и русской элегией в рассказе Бунина, но гармоническая стилистика пушкинского времени у Бунина теряет качества идеального баланса, игра полутеней то и дело превращается во вспышки гроз, в огненные зарницы («и все это при блеске зарниц, которые все ярче озаряли лес, избы, дорогу» – 5; 121), отчего очертания разрушающегося мира, которому суждено погибнуть, выступают еще четче и для главного героя «Несрочной весны», и для мужика, который подвез его от станции:
Человек оказался очаровательный – детски наивный гигант, всю дорогу повторял: «Глаза бы не глядели! Слезы!» Меж тем 〈…〉 оглохший от старости белый жеребец быстро и легко мчал по лесным дорогам коляску, тоже старую, но чудесную, покойную, как люлька (5; 122).
Заброшенная усадьба в «Несрочной весне» называется то «дворцом», то «музеем». Последнее наименование иронично: созданный по инициативе советской власти «музей» должен сохранить намеренно уничтоженное и уничтожаемое той же властью. Охраняет «музей» однорукий китаец, чья немота, уродство и инородство прибавляют к музейной теме коннотаты ужаса, однорукий музейный китаец олицетворяет угрозу абстрактную и всеобъемлющую – революционное покушение на элегический мир памяти:
в вестибюле 〈…〉 сидел 〈…〉 с короткой винтовкой на коленях однорукий китаец 〈…〉 Ни единая не китайская душа, конечно, ни за что бы не выдержала этого идиотского сиденья в совершенно пустом доме, – в нем, в этом сиденье, было даже что-то жуткое (5; 123),
и это чрезвычайно выразительное воплощение темы восточного хаоса, бессмысленного разрушения, неотвратимой, невозмутимой, немой смерти.
С подтекстом из Батюшкова, одного из основоположников русской музейной культуры, созидавшего ее наряду с другими участниками кружка А. Н. Оленина [297], музейная тема у Бунина заставляет вернуться к «Путешествию в замок Сирей», к размышлениям Батюшкова о том, насколько опасны для руин несведущие профаны:
В Германии вы узнаете от крестьянина множество исторических подробностей о малейшем остатке древнего замка или готической церкви. Все рейнские развалины описаны с возможною историческою точностью учеными путешественниками и художниками, и сии описания вы нередко найдете в хижине рыбака или земледельца. Притом же немцы издавна любят все сохранять, а французы разрушать [298].
Финал «Путешествия в замок Сирей» оптимистичнее, чем финал «Несрочной весны»: у Батюшкова русские офицеры, оказавшись в замке, хотя бы на некоторое время возвращают ему прежнюю жизнь, бунинский герой путешествует по заброшенному дворцу в абсолютном одиночестве, он не может вернуть жизнь мертвой усадьбе, ему остается только самому вступить во владения смерти. Батюшков описывает руины в момент петербургского расцвета, «золотого века» русского искусства, Бунин констатирует смерть обрушившейся империи. Перечни старинных книг, описания старинных библиотек у Бунина сделаны не только со знанием всех тонкостей подобных описаний в романтической литературе, Бунин воспроизводит XIX в. почти точно, но с едва уловимыми интонациями пародии, угадывающейся в «старинных духах», в искусно выбранных или специально стилизованных витиеватых цитатах. Четверостишие «Успокой мятежный дух…» слегка пародирует пастораль просьбой «не играть во свирель»: по законам пасторального жанра игра на свирели как раз успокаивает и умиротворяет. Искаженная цитата из Сумарокова говорит о несвойственных идилии чрезмерных страстях, присущих скорее эпохе модерна: в прошлое отодвинута не только дореволюционная жизнь, но и гармония золотого века. Поэзия пушкинско-батюшковской эпохи цитируется, но ее язык не может вернуться из прошлого в своем первозданном виде, он процитирован Буниным как «музейный», мертвый язык, неуместный в эпоху катастроф, но от этого еще более ценный и недоступный.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
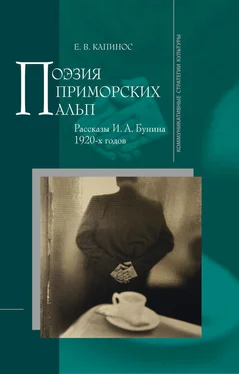




![Елена Коронатова - Бабье лето [повесть и рассказы]](/books/192117/elena-koronatova-babe-leto-povest-i-rasskazy-thumb.webp)






