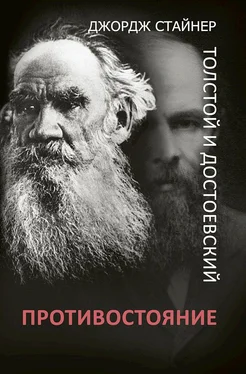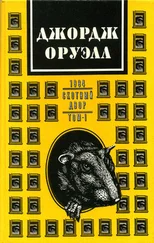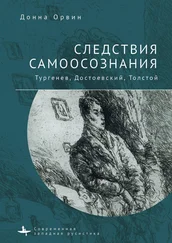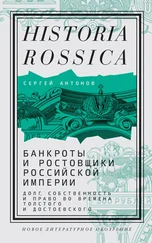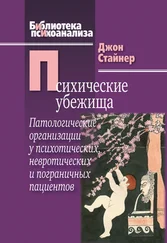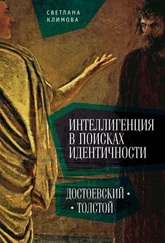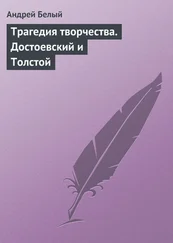Истоки «Анны Карениной» можно проследить в финальных главах «Войны и мира». Жизнь Николая в Лысых Горах и его отношения с княжной Марьей — это предварительный набросок к истории Левина и Кити. Здесь уже вчерне видна символика позднейших мотивов: княжна Марья недоумевает, почему Николай «бывал так особенно оживлен и счастлив, когда он, встав на заре и проведя все утро в поле или на гумне, возвращался к ее чаю с посева, покоса или уборки». Кроме того, дети, с которыми мы знакомимся в первой части Эпилога, возвращают нам некоторую часть той свежести, которую Толстой методично погубил в их старших родственниках. Трехлетняя дочь Николая Наташа — реинкарнация ее тетки, какой мы ее когда-то знали. Она темноглаза, бойка и смекалиста. Налицо переселение душ; десять лет спустя эта вторая Наташа ворвется в мужские жизни с лучезарной стремительностью, выделявшей героиню «Войны и мира». У Николеньки Болконского тоже есть потенциал стать персонажем нового романа. Нам показывают его сложные отношения с Николаем Ростовым и любовь к Пьеру. Его рождение ознаменовало возвращение в роман князя Андрея, и именно на Николеньке роман фактически и завершается.
Сцена, где Ростов, Пьер и Денисов спорят о политике, напоминает острую дискуссию в финале «Анны Карениной». Но тематически этот эпизод подобен мосту, протянутому через долгий период толстовского творчества В нем есть аллюзии на декабристов, о которых Толстой собирался писать роман еще до того, как взялся за «Войну и мир». Но я бы предположил также, что в этом фрагменте воплощены первые импульсы к созданию историко-политического романа об эпохе Петра Великого, который занимал мысли Толстого между завершением «Войны и мира» (1869) и началом работы над «Анной Карениной» (1873).
Таким образом, Эпилог можно рассматривать двояко. В рассказе о ржавеющих браках Ростова и Безухова выражен почти патологический реализм Толстого, его поглощенность временными процессами и неприязнь к нарративным изяществам и недосказанностям — тем, что у французов называется «de la littérature» [66] (Фр.) «литературное».
. Но в первой части Эпилога также провозглашена толстовская убежденность в том, что нарративная форма должна стараться соперничать с бесконечностью — буквально, с незавершенностью — реального опыта. Последнее предложение в беллетристической части «Войны и мира» оставлено незаконченным. Думая о покойном отце, Николенька говорит себе: «Да, я сделаю то, чем бы даже он был доволен…» Многоточие вполне уместно. В конце романа, который в высшей степени под стать течению и многообразию действительности, не может стоять точка.
Русский историк литературы князь Мирский отмечал, что и здесь уместно сравнение между «Войной и миром» и «Илиадой». Ибо в романе, как и в поэме, «конца не наступает, поток жизни продолжает течь». Разумеется, говорить о «концовке» Гомеровых поэм довольно затруднительно. Аристарх утверждал, что «Одиссея» завершается 296-й строкой Песни двадцать третьей, и очень многие современные исследователи соглашаются, что остальной текст — более или менее позднейшая добавка. Немало сомнений бытует и в отношении концовки «Илиады» в том виде, в каком мы ее знаем. У меня недостаточно инструментов для участия в этих в высшей степени специальных спорах, но некоторый эффект, оказываемый произведениями, которые обрываются в разгар действия, несомненны. Лукач сформулировал это следующим образом:
«Гомеровские эпопеи, начинающиеся с середины и заканчивающиеся без завершения, обусловлены безразличием истинного эпоса к архитектурным конструкциям; введение чужеродного материала не сможет расшатать равновесие [подлинной эпопеи], ибо в ней все вещи живут своей жизнью, и из их внутренней значимости рождается их „законченность“ и сбалансированность».
Эта незавершенность отражается в нашем сознании и создает ощущение энергии, излучаемой произведением. Говоря о «Войне и мире», Э. М. Форстер совершенно верно сравнивает его действие с музыкой:
«Такая неопрятная книга. Но при этом — разве не начинаем мы слышать мощные аккорды, принимаясь за ее чтение, а когда закрываем ее — разве не осознаем, что каждая деталь — даже включая каталог стратегий — ведет существование более масштабное, чем это было мыслимо в то время?».
Самый, вероятно, таинственный эпизод в «Одиссее» — тот, где мы узнаем о предсказанном странствии Одиссея к земле, где людям неведомы ни море, ни вкус соли. Это последнее приключение пророчит герою душа Тиресия. Одиссей рассказывает о нем Пенелопе буквально сразу же после их воссоединения и даже прежде, чем они легли в постель. Одни исследователи считают текст этого рассказа неподлинным, другие видят в нем иллюстрацию к хладнокровной, лишенной воображения самовлюбленности, в которой обвиняет Одиссея Т. Э. Лоуренс. Я предпочитаю рассматривать его как пример типичного гомеровского фатализма и характерной для него уравновешенности взгляда, который управляет поэмой даже в моменты высокого пафоса. В самой этой теме есть аура древней магии. Исследователи не смогли пока объяснить ее происхождение и точное значение; Габриель Жермен предположил, что этот гомеровский мотив воплотил в себе память об азиатском мифе о сверхъестественном царстве в глубине материка. Но вне зависимости от корней этого эпизода и его места в поэме в целом, сила его воздействия несомненна. Он распахивает двери Одиссеева дворца к неизведанным морям и превращает концовку «Одиссеи» из финала сказки в финал одной из глав саги. В конце второй части бетховенского «Императора» мы вдруг слышим — поначалу глухо и отдаленно — нарастание темы рондо. Так же и в финале «Одиссеи» голос певца умолкает, прежде чем перейти к новому зачину. История последнего странствия Одиссея на пути к таинственному примирению с Посейдоном продолжала звучать через века — через псевдогомеровскую литературу и творчество Сенеки, — пока не достигла ушей Данте. Если у «Одиссеи» есть финал, его нужно искать в трагическом плавании мимо Геркулесовых столбов, описанном в Песни двадцать шестой «Ада».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу