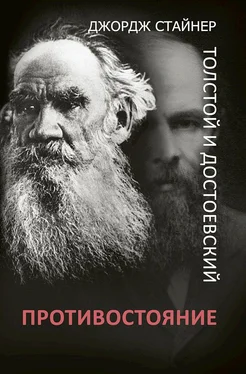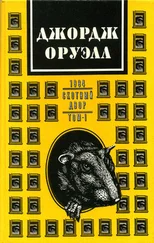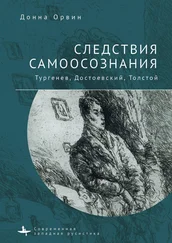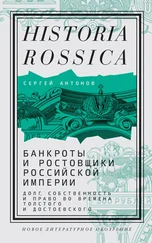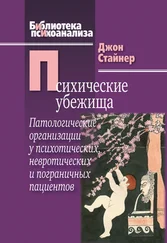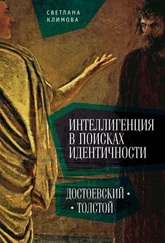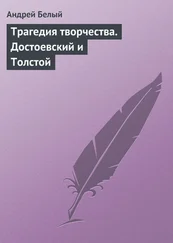Ролью эпилога в анализе Толстого как романиста зачастую пренебрегают. Источники и значение мыслей об исторической закономерности во второй части Эпилога прекрасно раскрыты Исайей Берлиным. Его слова о подспудном противоречии между поэтическим видением Толстого и его философской программой проливают свет на весь роман в целом. Теперь мы ясно видим, что «мозаичная» техника толстовских батальных сцен — где целостность достигается через наложение мелких фрагментов — отражает веру в то, что военные действия есть результат совокупности частных телодвижений, не поддающихся исследованию или контролю. Также нам становится ясно, что весь роман был задуман как своего рода опровержение официальной историографии.
Но сейчас — о другом. Мнимая бесформенность «Войны и мира» — или, точнее, отсутствие в романе абсолютного финала — создает сильнейшее ощущение, что перед нами — произведение, которое, хотя формально и считается беллетристикой, воплощает всю многолюдную полноту жизни и, в итоге, становится частью наших воспоминаний, не уступая по яркости переживаниям из личного опыта. С этой точки зрения первая часть Эпилога приобретает чрезвычайную важность.
Эпилог привел немалое число читателей в замешательство, а некоторым даже показался отвратительным. Его первые четыре главы представляют собой краткое размышление о природе истории в наполеоновскую эпоху. Первое предложение — «Прошло семь лет» — было, вероятно, добавлено позднее, дабы соотнести исторический анализ с описанными в романе событиями. Толстой то и дело предлагал завершить «Войну и мир» решительным выражением его взглядов на «движение масс европейских народов с запада на восток и потом с востока на запад» и на значимость «случая» и «гения» в философии истории. Но после четырех глав он вернулся к прозаическому нарративу. А историографические размышления перенес во вторую часть. Вопрос — почему? Может, он следовал неодолимому инстинкту сохранить внешнее правдоподобие или стремился сыграть роль времени в жизни своих персонажей? Может, Толстому не хотелось прощаться со своим творением, со всей галереей созданных им персонажей, в мощном замесе которых присутствовал его дух? Нам остается лишь гадать. В мае 1869 года он пишет Фету, что эпилог к «Войне и миру» не «выдуман», а «выворочен с болью из утробы». Совершенно очевидно — он вложил в этот эпилог всю мощь своей энергии и мысли. Эффект этих незавершенных финалов — тот же, что в длинных кодах бетховенских симфоний — буря на фоне тишины.
Основной корпус романа завершается на ноте воскрешения. Даже обугленные развалины Москвы удивили Пьера «красотой». Извозчики, «плотники, рубившие срубы, торговки и лавочники, все с веселыми, сияющими лицами, взглядывали на Пьера». В тонком финальном диалоге между Наташей и княжной Марьей предсказаны оба брака, к которым шел весь сюжет. «Ты подумай, какое счастие, когда я буду его [Пьера] женой, а ты выйдешь за Nicolas!» — восклицает Наташа в минуту абсолютной радости.
Однако в первой части Эпилога «меркнет воздух рая». Восторг и ощущение новой зари 1813 года полностью сошли на нет. Интонацию задает первое же предложение Главы V: «Свадьба Наташи, вышедшей в 13-м году за Безухова, было последнее радостное событие в старой семье Ростовых». Старик-граф умирает, оставляя после себя долги, вдвое превышающие его состояние. Движимый сыновьей любовью и чувством чести Николай берет это огромное бремя на себя: «Он ничего не желал и ни на что не надеялся; и в самой глубине души испытывал мрачное и строгое наслаждение в безропотном перенесении своего положения». Эта суровая нравственность с оттенками нетерпимости и пафоса останется характерной чертой Николая даже после его женитьбы на княжне Марье и после того, как он вновь, благодаря своему труду, обретет состояние.
В 1820 году Ростовы и Безуховы собираются в Лысых Горах. Наташа «пополнела и поширела» и «в лице ее не было, как прежде, этого непрестанно горевшего огня оживления». Более того, «ко всем своим недостаткам… неряшливости, опущенности… Наташа присоединяла еще и скупость». Она жутко ревнива — расспрашивая Пьера о его поездке в Петербург, припоминает ссоры, омрачившие их медовый месяц. Толстой пишет: «Холодный, злой блеск засветился в ее глазах». Когда мы в последний раз видели Наташу, в ее глазах светился «веселый вопросительный блеск… на лице было ласковое и странно-шаловливое выражение». В своем иконоборчестве Толстой безжалостен; все персонажи один за другим покрываются ржавчиной. Старая графиня впадает в слабоумие: «Лицо ее было сморщено, верхняя губа ушла, и глаза были тусклы». Она превратилась в несчастную старуху, которая плачет, «как ребенок, потому что ей надо… просморкаться». Соня «уныло и упорно» сидит за самоваром, тратя на это занятие всю свою серую жизнь, время от времени разжигая искру ревности у княжны Марьи и напоминая Николаю о бравой невинности прошлых времен.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу