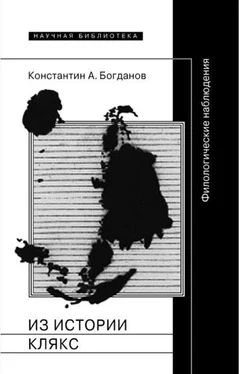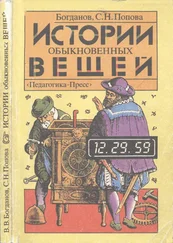Позднее имя «Клекс» (Klex, Kleks, Klek) встречается в ряду действительных еврейских фамилий Западной и Восточной Европы. См.: Dictionary of Jewish Surnames from Galicia// www.avotaynu.com/books/DJSGNames.htm; Jewish Surnames from Lublin // www.jewishgenealogy.com.ar/lublin/ancestorsk.html.
Schiller F. Sämtliche Werke in 5 Bd. Bd. 1. München: Carl Hanser, 2004. S. 502.
Так, например, эти слова поняты составителями недавнего одноименного сборника, посвященного медиальным и собственно технологическим особенностям рукописной литературы: «Mir ekelt vor diesem tintenklecksenden Säkulum». Schreibszenen im Zeitalterder Manuskripte / Hrsg. von Martin Stingelin in Zusamemenarbeit mit Davide Giuriato und Sandro Zanetti. München: Wilhelm Fink Verlag, 2004 (Zur Genealogie des Schreibens. Bd. 1).
Так, например, в известном переводе Наталии Ман та же фраза переведена как «век бездарных борзописцев» — см.: Шиллер Ф. РазбойниКи / Пер. Н. Ман, стихотворения в переводах М. Достоевского. М.: Детская литература, 1985 — цит. по: lib.ru/POEZIQ/SHILLER/shiller_razboiniki.txt.
Menzel W. Deutsche Dichtung von der ältesten bis auf die neueste Zeit. In 3 Bd. Bd. 3. Stuttgart: Krabbe, 1859. S. 249 ff.
Цит. в переводе Наталии Ман. В одном из вариантов второго издания пьесы Шпигельберг удостаивается характеристики «маклера Сатаны» («Der Satan mag seine Leute kennen, dasser dich zu seinem Mäkler gemachthat»), а самому ему приписан риторически-двусмысленный вопрос: «Warum sollte der Teufel so jüdisch zu Werke gehen?» — «Зачем же черту вести себя по-еврейски?» ( Schiller F. Sämtliche Werke in 5 Bd. Bd. 1. S. 540).
Биографические материалы на эту тему собраны в: Frankl О. Friedrich Schiller in seinen Beziehungen zu den Juden und zum Judentum. Mährisch-Ostrau und Leipzig, 1905 (переизд.: Bremen: Faksimile-Verlag, 2006; см. также: Oellers N. Goethe und Schiller in ihrem Verhältnis zum Judentum // Judentum, Antisemitismus und deutschsprachige Literatur vom 18. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg. Ersten Teil / Hrsg. von Hans Otto Horch und Horsl Denkler. Tübingen: Max Niemeyer, 1988. S. 108–130).
Schiller F. Die Räuber. Erläuterungen und Dokumente / Hrsg. Von Christian Grawe. Stuttgart: Philipp Reclamjun., 1976. S. 203. Заметим, кстати, что только негативно воспринимал образ Шпигельберга и Карл Маркс: Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 8. М.: Госиздат, 1929. С. 369 («Во всем остальном то, что он приписывает себе, досталось ему в силу обстоятельств, то, что он делает, делают за него обстоятельства или же он довольствуется тем, что копирует деяния других; но открыто сыпать перед буржуа официальными фразами о порядке, религии, семье, собственности, а втайне опираться на общество Шуфтерле и Шпигельбергов, на общество беспорядка, проституции и воровства — тут Бонапарт оригинален»).
См. об этом: Eisenstein E. L. The Printing Press as an Agent of Change. Cambridge: Cambridge University Press, 1979. P. 303–311.
Carrington H. Die Figur des Juden in der dramatischen Litteratur des XVHL Jahrhunderts / Diss. Heidelberg: Pfeffer, 1897; Kaufmann M. R. Der Kaufmannsstand in der deutschen Literatur / Diss. Bern: G. Grunau, 1908; Leitzmann A., Burdach K. «Der JudenspieB und die Longinussage» // Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Geschichte und deutsche Literatur [und für Pädagogik]. 1916. Bd. 37. S. 21–56; Holdschmidt H. C. Der Jude auf dem Theater des deutschen Mittelalters. Die Schaubühne, 12. Emsdetten: H. & J. Lechte, 1935; Jenzsch H. Jüdische Figurenin deutschen Bühnentexten des 18. Jahrhunderts: Eine systematische Darstellung auf dem Hintergrund der Bestre bungen zur bürgerlichen Gleichstellung der Juden, nebst einer Bibliographie nachgewiesener Bühnentexte mit Judenfiguren der Aufklärung / Diss. Hamburg: Universität Verlag, 1974; Adams С. For Good and Evil. The Impact of Taxes on the Course of Civilisation. London; New York: Madison Book, 1993.
Пушкин A. C. Полное собрание сочинений. Т. 7. М.; Л.: Издательство АН СССР, 1937. С. 108.
Ср. рассуждение С. С. Аверинцева, по мнению которого «Карл Моор у Шиллера не может энергичнее выбранить свой век, как назвав его „чернильным“ веком. Средние века и впрямь были — в одной из граней своей сути — „чернильными“ веками. Это времена „писцов“ как хранителей культуры и „Писания“ как ориентира жизни, это времена трепетного преклонения перед святыней пергамента и букв» ( Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М.: Наука, 1977. С. 208). Аверинцев следует в этом случае, быть может, за Г. А. Гуковским, приурчивавшим действие «Скупого рыцаря» к Бургундии XV века ( Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М.: Гослитиздат, 1957. С. 315). Но «Разбойники» — пьеса не о Средневековье. Известно, в частности, что «Шиллер решительно отверг предложение режиссера Дальберга перенести действие в Средние века» ( Тураев С. В. Молодой Шиллер // История всемирной литературы в 9 тт. Т. 5. М.: Наука, 1988. С. 226). Принципиально более оправданным мне представляется мнение Олега Проскурина, считающего, что «предельная обобщенность и нарочитая неопределенность времени и места действия входили в жанровое задание пьесы, мыслились необходимым элементом „шекспиризма“ — причем шекспиризма не исторических хроник, а „трагедии страстей“» ( Проскурин О. Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. М.: Новое литературное обозрение, 1999. С. 359).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу