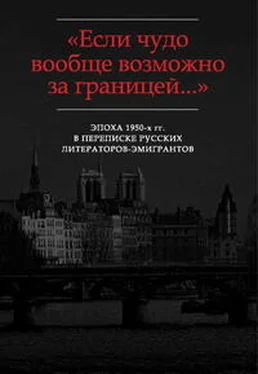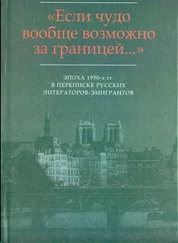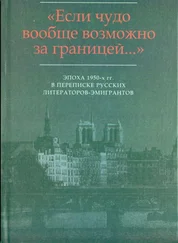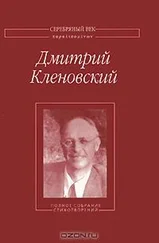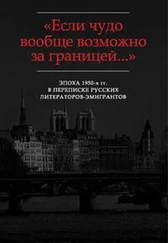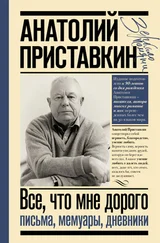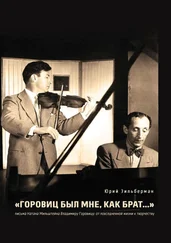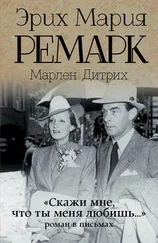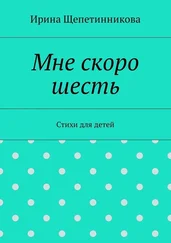Что с изданием Ваших «Гурилевских» в «Рифме»? Если безнадежно, следовало бы издать самому! В Мюнхене, если небольшим тиражом и малым форматом, обошлось бы всего в 100 долларов. Очень советовал бы, если есть хоть какая-нибудь материальная возможность! Это помогло бы Вас запомнить как поэта и явилось бы своего рода обещанием дальнейшего. Поднатужьтесь и организуйте это дело!
Я последние месяцы сильно болею (мучительные боли в левой части брюшной полости), лекарства и строгая диета не помогают, и похоже, что дело серьезное и что мне понадобится длительное лечение в больнице, а м. б., и операция. Еду на днях на консультацию к специалисту в Мюнхен, где, вероятно, и решится моя дальнейшая судьба. Плохо, что непрерывно теряю в весе и чувствую себя и больным и слабым.
Получил много хороших откликов на мою книгу [208], в том числе и от «парижан», среди этих откликов — от Адамовича, Бор. Зайцева, Берберовой, Чиннова, Присмановой, Прегель [209], С. Маковского, Вейдле, Биска [210]и др. [211]Некоторые из них считают «Прикосновенье» лучшей из моих книг [212]. Не знаю… Продается книга (отчасти с помощью моих друзей в USA) хорошо, и я надеюсь, что и на этот раз я сумею рассчитаться с долгами по ее изданию. В Америке продано уже свыше 150 экз. Появился одновременно спрос на предыдущие мои книги — их продано около 50. Похоже, что полемика в «Рус<���ской> мысли» сделала мне рекламу! Статья Одоевцевой понравилась, видимо, лишь очень немногим. Адамович писал мне, что «прочел ее с большой досадой», был удивлен в ней «смесью бойкости и грубости» и считает, что О<���доевцева> «берется не за свое дело».
В случае, если кто интересуется моей книгой, имейте в виду, что ее можно выписать, написав по адресу: Mr G. Taskin (Юрий Александр<���ович> Таскин) 440 Miller ave Brooklyn, N.Y. и вложив в конверт 1 дол<���лар> за экземпляр. У него «склад» моих книг для USA и имеются все они за исключением давно распроданного «Следа жизни».
Сердечный привет! Искренне преданный Вам Д. Кленовский
10 июля <19>59 г.
Дорогой Владимир Федорович!
Вы правы: если не ответить сразу на письмо, потом как-то не получается, даже если перечтешь. В своем Вы затронули (и как всегда талантливо — перечел с удовольствием!) столько тем, что их вообще не расхлебать. К тому же спорить на расстоянии трудно… Отвечу лишь на некоторые.
Насчет Гумилева. Вы перечислили все варианты любви к нему: и за то, мол, любят, что расстрелян, и за то, что пишет «понятно», и за то, что был мужествен, и даже за то, что царскосел (не в мой ли огород камешек?). Не спорю, что 99 % почитателей Гумилева любят его по одной из этих причин. Но я к ним не принадлежу. Вы забыли единственную причину, по которой его, с моей точки зрения, только и стоит любить. Я имею в виду его попытки прикоснуться к «мирам иным», наметившиеся в 10–15 предсмертных его стихотворениях. Только за них (в сочетании с большим словесным мастерством) я его и люблю, остальное в нем терплю. Я писал об этом очень давно (1948?) в «Посеве», в статье «Подлинный Гумилев», подписанной псевдонимом Карелин, а затем повторил в № 20 «Граней» [213]. Для меня вообще именно вот это — в каждом поэте решающее. За это, в частности, дорог мне Ходасевич. Но, конечно, я не был бы человеком близким к поэзии, если бы не любил поэтов и за многое другое.
За фразу «пишите прозой, господа» [214]я Пушкина не то что упрекаю, но ему не аплодирую. Я считаю ее признаком наступающей старости (ведь «тогда» она приходила вдвое раньше, чем сейчас) и в связи с этим утраты веры в волшебство поэзии (с которым не поспорит никакая проза), что там ни говорите, но прозой писать легче. Советуя так другим, Пушкин как бы оправдывал себя, это была минута слабости. Как ни хороша пушкинская проза, но он все-таки прежде всего поэт, и это как бы опровергает его же предложение. Оправдание, пожалуй, в том, что в пушкинское время почти не было хорошей русской прозы и было неплохо вызвать ее к жизни. Сколько хороших прозаиков начало с плохих стихов, особенно это заметно у французов (Мопассан) — проза им удалась, поэзия — нет. Мариэтта Шагинян, конечно, не Бог весть какой литературный пример, но все-таки любопытно, что, начав со стихов («Orientalia» [215]) и перейдя на прозу, она на вопрос, почему это так получилось, откровенно ответила: стихи требовательней, им подай свободное вдохновение, проза легче «сочиняется», она угодливей. А многогранность Пушкина меня не так уж восхищает, я предпочитаю в каждом авторе лейтмотив, свою ноту.
Читать дальше