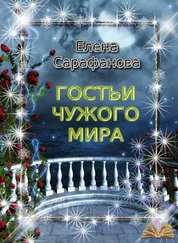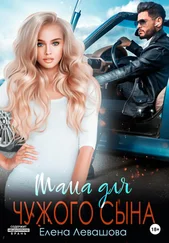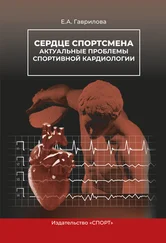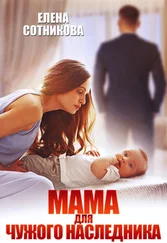Вывод, к которому приходит Д. Мережковский, как будто логично следует из сотканной им картины постоянного противоборства между языческим и христианским, телесным и духовным в мировой культуре:
«Таковы они в своем вечном противоречии и вечном единстве, — эти два демона русского Возрождения — тайновидец плоти, Л. Толстой, тайновидец духа, Достоевский; один — стремящийся к одухотворению плоти; другой — к воплощению духа. И именно в том, что их двое, что они — вместе (хотя они сами еще не сознают, что они вместе, и что не могут быть один без другого), заключается наша последняя и величайшая надежда.
Рафаэль, соединитель, или только желавший быть соединителем двух полюсов итальянского Возрождения, следовал за Леонардо и Микеланджело. Совершенно обратная тройственность в русском возрождении: наш Рафаэль, Пушкин, предшествует Л. Толстому и Достоевскому, которые в своем сознании раздвоили и углубили то, что стихийно и бессознательно соединялось в Пушкине. Ежели религиозное созерцание Плоти у Л. Толстого — тезис, религиозное созерцание Духа у Достоевского — антитезис русской культуры, то не следует ли заключить, по закону „диалектического развития“, о неизбежности и русского синтеза , который, по своему значению, будет в то же время всемирным, о неизбежности последнего и окончательного Соединения, Символа, высшей, чем у Пушкина, потому что более глубокой, религиозной, более сознательной гармонии?» (187).
Итак, вторая часть книги «Творчество» только начиналась с анализа поэтики Л. Толстого и Ф. Достоевского. Д. Мережковский сделал выводы о функции детали в произведениях Л. Толстого, об особенностях изображения тела посредством слова («тайновидец плоти»), овладении языком описания человеческих телодвижений (психофизиологией), искусством звукоподражания. В «Войне и мире» он выявил скудость исторической и культурно-бытовой обстановки начала XIX в., а в «Анне Карениной» — истощение языка при описании внутренней речи, «страстей ума»: нарушение правил грамматики, использование «бессовестных сочетаний звуков (муж уж жалок)». Творчество Ф. Достоевского («антитезис») осмыслено как противоположность («тайновидец духа»): в его центре находится борьба героической воли с русскими «стихиями» — нравственного долга (Раскольников), народа и государства (Петр Верховенский, Ставрогин, Шатов); метафизики и религии (Иван Карамазов, князь Мышкин, Кириллов); его произведения драматургичны, а над героями висит рок, как в греческой трагедии, их речь индивидуализирована:
«…от телесного Л. Толстой идет к душевному, от внешнего — к внутреннему. Не меньшей ясности облика телесного достигает обратным путем Достоевский: от внутреннего от идет к внешнему, от душевного — к телесному, от сознательного, человеческого — к стихийно-животному. У Л. Толстого мы слышим, потому что мы видим; у Достоевского мы видим, потому что слышим».
Д. Мережковский отмечает отсутствие у Л. Толстого образа Петербурга, анализирует специфику пространственновременной организации повествования, предлагает типологию персонажей, в которой они представлены как люди «грядущего града» (Алеша, Идиот, Зосима) и «настоящего града» (Иван Карамазов, Рогожин, Раскольников, Версилов, Ставрогин, Свидригайлов).
Концепция Д. Мережковского оказалась существенной для развития литературоведения и была признана весомой, авторитетной.
«Понадобилась работа целого поколения, труды Д.С. Мережковского, Л. Волынского, чтобы научить нас видеть в Достоевском иное, чем бытописателя, а в каком-нибудь Раскольникове не просто представителя психологии „голодающего студенчества“, что видел в нем Писарев» [116] Карцевский Ф.С. Об эстетике Достоевского // Современные записки. 1921. Кн. III. С. 118.
;
она повлияла на становление методологических принципов А.П. Скафтымова:
«…с одной стороны, как продуктивный опыт анализа содержания через форму, с другой — как импульс к выработке собственной литературоведческой методологии и философии истории автора „Войны и мира“» [117] Дронова Т.И. Две интерпретации философии истории в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» (А. Скафтымов и Д. Мережковский) // Александр Павлович Скафтымов в русской литературной науке и культуре: статьи, публикации, воспоминания, материалы. — Саратов, 2010. С. 98
.
Н.Д. Тамарченко полагал, что Д. Мережковский
«…вслед за Розановым оказывается предшественником Бахтина: его „определение голоса как воплощенной идейной позиции в мире“ и его мысли о „воплощении голоса в теле“.» [118] Тамарченко Н.Д. «Эстетика словесного творчества» М.М. Бахтина и русская философско-филологическая традиция. — М.; 2011. С. 225.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу