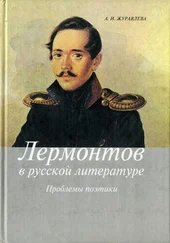И, однако, он уже не сказал бы, подобно Пушкину: „Красуйся, град Петра, и стой / Неколебимо, как Россия“. Достоевский, первый из русских, почувствовал и понял, что здесь-то именно, в Петербурге, петровская Россия, „вздернутая на дыбы железною уздою“, как „загнанный конь“, дошла до какой-то „окончательной точки“, и теперь „вся колеблется над бездною“. — „Может быть, это чей-нибудь сон? Кто-нибудь вдруг проснется, кому все это грезится — и все вдруг исчезнет?“ Он даже наверное знает, что исчезнет, знает, что никогда Россия не пойдет назад в Москву, куда зовут ее славянофилы, ни еще дальше назад в яснополянское, как будто крестьянское, на самом деле помещичье „Царствие Божие“, куда зовут ее толстовцы; но, вместе с тем, он знает, что Россия и в Петербурге не останется» (165–166).
От темы Петербурга Д. Мережковский переходит к мистическому у Ф. Достоевского и снова соотносит его творчество с Гёте, Кантом:
«Такие нуменальные мысли или только тени мысли должны были смущать Гёте, когда создавал он своих Матерей во второй части Фауста, и Канта, когда обдумывал он свою „трансцендентальную эстетику“» (176),
и с Ф. Ницше:
«Фридрих Ницше, даже в то время, когда уже преодолел, — как, по крайней мере, ему самому казалось, — все прочие метафизические „переживания“, не мог отделаться лишь от одного из них, самого давнего и упорного, которое преследовало его всю жизнь, и которого он так боялся, что, по собственному признанию, почти никогда о нем не говорил. Однажды Заратустре является карлик, отвратительный „горбун“, дух „земной тяжести“, и напоминает ему об этом непобежденном, метафизическом бреде, о „вечныхвозвращениях“. Заратустра, ничего не возражая ему, охваченный ужасом и омерзением, падает на землю, как мертвый» (176).
Для иллюстрации мистических переживаний и прозрений выстраивается целый ассоциативный ряд. Он открывается высказываниями Ф. Достоевского из «Дневника писателя» за февраль 1877 г. и март 1876 г.:
«„Я ужасно люблю реализм в искусстве; реализм, так сказать, доходящий до фантастического. Для меня, что может быть фантастичнее и неожиданней действительности? Что может быть даже невероятнее иногда действительности? То, что большинство называет почти фантастическим и исключительным, то для меня иногда составляет самую сущность действительного“» (174).
Затем упоминается «Критика чистого разума» Канта, вводится фрагмент из Откровения (13:18) «Имеющий ум — сочти число зверя», снова называется одна из «критик» Канта — «трансцендентальная эстетика», упоминается Ф. Ницше с его метафизическими переживаниями и идеей «вечных возвращений», соотносимой с цитатой из стихотворения А.К. Толстого «По гребле неровной и тряской…» (1840-е гг.): «И так же шел жид бородатый, и так же шумела вода». Потом снова называется один из образов, волновавших Ф. Ницше — «паук в паутине», возникающий, как известно, во 2 разделе 3 части книги «Так говорил Заратустра», где в видении Заратустры «медлительный паук, ползущий в лунном свете — разве все это не было уже когда-то?». В этот ряд вводятся слова Свидригайлова из «Преступления и наказания»:
«Нам вот все представляется вечность, как идея, которую понять нельзя, что-то огромное-огромное! Да почему же непременно огромное? И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, этак в роде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки — и вот и вся вечность. Мне, знаете, в этом роде иногда мерещится» (177),
а состояние, в котором находился Раскольников, иллюстрируется фрагментами пушкинских «Бесов»: «Страшно, страшно поневоле / Средь неведомых равнин» и стихотворения Ф. Тютчева «О чем ты воешь, ветр ночной…» (1836). В пересказ разговора Ивана с Чертом вводится характерная цитата из Записной тетради Достоевского за 1880–1881 гг.:
«… Вы бы могли отнестись ко мне, хотя и научно, но не столь высокомерно, по части философии, хотя философия и не моя специальность. И в Европе такой силы атеистических выражений нет и не было. Стало быть, не как мальчик же я верую в Христа и Его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла, как говорит у меня же, в том же романе, Черт» (178),
а завершается все целой головоломкой:
«Не кажется ли, что этот Черт, несмотря на свой собачий хвост и на то, что „философия не его специальность“, все-таки не без пользы для себя прочел „Критику чистого разума“? Вольтерианцы XVIII и нашего века (потому что и в наш век их немало, хотя уже и под другими именами), эти „философы без математики“, как выражался Галлей, друг Ньютона, конечно, справились бы с подобным Чертом, без особенной трудности. Но, может быть, умам, несколько более точным, критическим, чем „вольтерианцы“, умам вроде Паскаля и Канта, пришлось бы таки побороться, „помужествовать“ с этим призраком, чтобы истребить „десятитысячную долю“ сомнения или веры, которую он внушает» (180),
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу