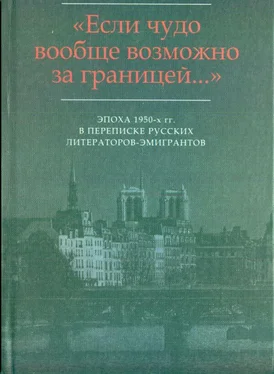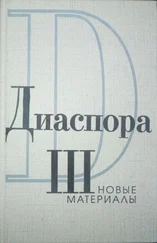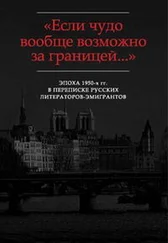. Здесь, как и во многих других случаях, приходится верить ему на слово, хотя вообще-то присочинить в воспоминаниях он был способен ничуть не хуже Иванова или Одоевцевой. Пожалуй даже, он делал это чаще и особенно невнятен был в датах, сперва потому что ему приходилось скрывать два своих «лишних» года, а позже — подчиняясь масонскому правилу, предписывавшему дат не уточнять. Уже в начале 1920-х гг. Адамович во всех автобиографиях проставлял годом рождения 1894 г., сбрасывая таким образом два года. Как утверждала Одоевцева в частной беседе, чтобы не отличаться возрастом от Георгия Иванова. Так или иначе, но во всех воспоминаниях о своей юности Адамович обращается с датами исключительно вольно.
Лекция К.И. Чуковского о футуризме в Тенишевском зале былапрочитана 13октября 1913 г. Георгий Иванов к тому времени уже состоял членом Цеха поэтов, куда в начале 1914 г. и Адамович «был со всем церемониалом принят обоими синдиками, Гумилевым и Городецким» [7] Новый журнал. 1988. № 172–173. С. 569.
. Вскоре почти весь эстетский Петербург знал эту неразлучную пару как «двух Жоржиков». Вместе они организовывали второй Цех поэтов сезона 1916/17 г., были главными действующими лицами третьего, вновь гумилевского, Цеха. После расстрела Н.С. Гумилева Георгий Иванов стал главой Цеха, а Адамович — основным критиком. Перед самой эмиграцией они даже жили вместе — Адамович и Иванов, только что женившийся на Одоевцевой — в пустующей квартире тетки Адамовича Веры Семеновны Белэй (урожд. Вейнберг; 1861-?), вдовы англичанина-миллионера (ул. Почтамтская, д. 20, кв. 7).
И эмигрировали все трое почти одновременно: летом 1922 г. уехал Иванов, затем Одоевцева, а в самом начале 1923 г. за ними последовал и Адамович. Описывать подробно все нюансы сложных взаимоотношений в нашу задачу не входит, для этого и материала недостаточно, и объем статьи слишком мал, — уж слишком богатые биографии у всех троих. Чуть подробнее хочется остановиться на одном: как теснейшая дружба, насчитывающая 25 лет (и каких лет!), сменилась пятнадцатилетней враждой. Что было настоящей причиной? Обоюдная зависть (у одного к творческим успехам, у другого — к житейским)? Об этом можно только догадываться, судя по второстепенным признакам: по намекам, отдельным интонациям писем. Причина внешняя очевидна, — внезапное несходство политических убеждений.
Вторая мировая война завершила целую эпоху в жизни русской эмиграции в Париже. 3 сентября 1939 г. — день, когда Франция и Великобритания вступили в войну с Германией, — можно одновременно считать и концом «русского блистательного Парижа». Ему уже никогда не суждено было возродиться в своем прежнем качестве. Нельзя сказать, что война оказалась для эмигрантов событием неожиданным. О том, что она вот-вот разразится, поговаривали задолго до осени 1939 г., — слишком уж напряженная была атмосфера в Европе в конце 1930-х гг. Но одно дело — ждать и предчувствовать, и совсем другое — делать выбор, когда этого требует время. Вторая мировая заставила каждого сделать свой выбор. Некоторым эмигрантам судьба предоставила несколько более широкие возможности для выбора, чем, например, советским людям, но выбирать, тем не менее, пришлось всем. Соответственно широким оказался и диапазон решений. Война все перевернула. Лидер кадетов П.Н. Милюков приветствовал сталинскую политику, А.И. Деникин возлагал надежды на Ворошилова, а Д.С. Мережковский — на Гитлера, сын террориста Л.Б. Савинков оказался капитаном интербригады в Испании, а бывший белогвардеец С.Я. Эфрон — агентом НКВД. Трудно даже придумать вариант судьбы, которому нельзя было бы подыскать аналог в истории русской эмиграции. Одни шли в Иностранный легион, другие организовывали Сопротивление во Франции, третьи сотрудничали с гитлеровцами, четвертые эмигрировали вторично, — в Новый Свет, в нейтральные страны. Литература в это время окончательно отошла на задний план, все заслонила политика, и в списках сражавшихся на той или иной стороне немало имен литераторов, в том числе и довольно известных: Н.А. Оцуп, Г.И. Газданов, B.C. Варшавский, Д. Кнут, А.П. Ладинский, В.Л. Андреев и многие другие. А уж остаться от политики в стороне, не быть замешанным в нее или хотя бы заподозренным в симпатии к той или другой стороне удалось и вовсе единицам. Из крупных имен здесь, кроме Алданова, и вспомнить-то некого. Не остались в стороне и Адамович с Ивановым.
Из-за чего в точности произошел разрыв, пока неизвестно, и в письмах, и в воспоминаниях оба глухо упоминают лишь о каких— то разговорах в «Круге» И.И. Фондаминского. Но по статьям Адамовича тех лет и общему умонастроению обоих суть этих разговоров легко восстановить. Георгий Иванов, как и Гиппиус с Мережковским, всегда был «за интервенцию» и остался стоять на этом даже после начала Второй мировой войны, что в глазах эмигрантской общественности автоматически превращало его в «коллаборациониста» и пособника нацистов. Адамович же в статьях конца 1930-х гг. цитировал Сталина едва ли не на каждой странице, вынужденно признавая его главной защитой демократии от «коричневой чумы», поскольку на других надежды мало. И свои убеждения тех лет едва ли не единственный раз в жизни постарался доказать делом, доказать прежде всего самому себе, что способен не только на прекраснодушные разговоры.
Читать дальше