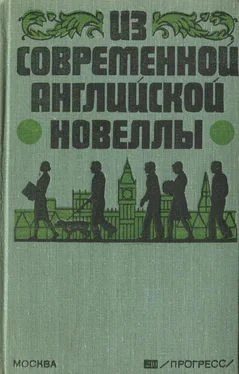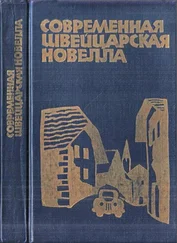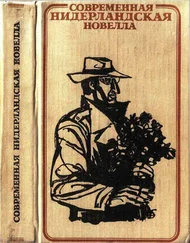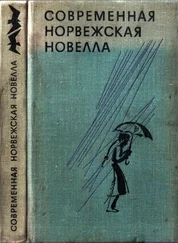— Чтобы даровать вам жизнь, ваша мать долгие часы лежала в родовых муках, — произнесла миссис да Танка. — Думали вы об этом когда-нибудь, мистер Майлсон? Думали вы когда-нибудь об этой несчастной женщине, о том, как кричала, она, ломая руки, извиваясь на ложе? Стоите ли вы таких мук, мистер Майлсон? Ну, скажите сами, стоите ли вы того?
Можно было уйти из этого купе, пристроиться к другим попутчикам. Но этим он доставил бы слишком большое удовлетворение миссис да Танка. Она бы громко расхохоталась, увидав, что он уходит, возможно даже пошла бы следом, чтобы поиздеваться над ним в присутствии посторонних.
— Все, что вы говорите обо мне, миссис да Танка, в равной мере приложимо и к вам.
— Вы хотите сказать, что мы с вами схожи, как две горошины в одном стручке? Тогда это стручок, начиненный динамитом.
— Я не это имел в виду. Ни за какие блага в мире не хотел бы я оказаться с вами в одном стручке.
— Однако вы оказались со мной в одной постели. И не сдержали своего слова, как подобало бы мужчине. Вы трус, мистер Майлсон, никчемный трус. Думаю, что вы сами это знаете.
— Я знаю себя, чего никак нельзя сказать про вас. Вы хоть раз задумались над тем, что вы такое в глазах других людей? Стареющая женщина, некрасивая, увядшая, весьма сомнительной нравственности и поведения. Какую несчастную жизнь устроили вы, должно быть, этим вашим мужьям!
— Сделав меня своей женой, они получили все, чего добивались, сполна. И вы понимаете это, только не смеете в этом признаться.
— Едва ли я лишусь сна, терзаясь этой проблемой.
Утро было прохладное, солнечное, небо ясное. Пассажиры, покидая поезд на промежуточных станциях, кутались в воротники — после теплой духоты вагона холод снаружи казался особенно резким. Женщины с корзинками. Молодые парни. Мужчины с ребятишками, с собаками, которых они забирали у проводника багажного вагона.
Да Танка, говорят, живет с какой-то женщиной. Но тем не менее отказался взять вину на себя. Человеку с его положением адюльтер и публичный скандал не к лицу. Так он заявил. Насыщенно. Жестко. Хорес Спайр, надо отдать ему должное, плевать хотел на то, как это будет выглядеть.
— Какому венку отдали бы вы предпочтение, мистер Майлсон, для возложения на гроб после вашей смерти? Я задаю этот вопрос потому, что намерена послать вам цветы. Единственный одинокий венок. От этой ужасной миссис да Танка, от страшилища.
— Что, что? — переспросил мистер Майлсон, и она повторила свой вопрос.
— А… Ну, из бутеня, пожалуй. — Он сказал это, будучи застигнут врасплох внезапно возникшей перед ним картиной. Ведь он не раз рисовал себе такую картину, не раз над ней раздумывал: катафалк, гроб, в гробу он. Вероятно, все будет совсем не так. Предвидение не было сильной стороной мистера Майлсона. Оглядываться назад, вспоминать, перебирать в уме события, переживания, которые в свое время, быть может, заполняли повседневность, — это было более ему свойственно. Ведь если не заглядывать вперед, дни текут за днями даже не без приятности. Мистеру Майлсону никогда не удавалось закрепить картину своих похорон в уме. Сколько бы он ни пытался, в конце концов все превращалось в чьи-то чужие похороны, на которых он присутствовал. Снова и снова вспоминалась ему кончина его отца и сопутствующие этому событию обряды.
— Из бутеня? — повторила миссис да Танка. Почему он назвал этот цветок? Почему не розы, не лилии или что-нибудь из комнатных растений? Бутень рос в Шропшире — по обочинам пыльных проселочных дорог; в залитых зноем и гуденьем пчел полях — огромные белые пространства волнами спускались к реке. Она сидела среди этих цветов, когда водила своих кукол на прогулку. Она лежала среди них, улыбаясь прекрасной, светлой голубизне неба. Она любила гулять среди этих цветов по вечерам.
— Почему вы сказали — из бутеня?
Он и сам не знал — почему; быть может, потому, что в одну из редких прогулок с родителями за город он увидел эти цветы и они ему запомнились. Но у себя в садике он выращивал дельфиниумы, и желтофиоли, и астры, и душистый горошек.
Ей казалось, что она снова вдыхает этот аромат, — аромат почти неуловимый: полей и жарких солнечных лучей на своем лице, летнего зноя и ленивой истомы. Там была где-то красная дверь, выцветшая и облупленная, и она сидела, прислонясь к ней спиной, на теплых ступеньках крыльца — маленькая девочка, одетая по моде того времени.
— Почему вы сказали — из бутеня?
Ему припомнилось, что он спросил тогда, как называются эти белые пушистые цветы. Он нарвал их и принес домой, и часто потом вспоминал об этом, хотя ему годами не доводилось больше бывать в полях, где цветет бутень.
Читать дальше