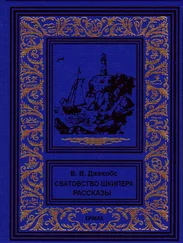Кирилл и в самом деле был белый, не в отцову породу, в бабушку Парасью выдался. И не Василия бы Петровича Грузлем дразнить, а вот прилепили несуразное прозвище к цыганисто черному мужику: Вася-Грузель да Вася-Грузель. Вот кто грузель-то — Курилка-Кирилл. Так нет, как в насмешку, ребята и Кирилла прозвали Обабком. К тем сыновьям Василия Петровича хоть подходит: у них головы, как у подберезовиков, смуглые, подпеченные солнышком, а у этого-то рассыпались льняным волокном… Какой он обабок, груздочек он.
Аксинья была сейчас в неузнаваемо приподнятом настроении, словно какой-то клапан, отгораживающий приток радости к сердцу, вдруг опять начал работать.
— Кирюшенька, — она набросилась на Кирилла, живого и невредимого, с поцелуями — он едва успевал обтираться рукавом, — усадила его, как маленького, на столешницу — ножки, свесившись, не доставали до пола — и крепко сплющила в ладонях по-стариковски сморщившееся от этого маленькое лицо. — Хороший ты мой! Любименький!
С фотографии из простенка отчужденно смотрел на нее военный Зиновий.
Щемящая память сдавила Аксиньино сердце тоской.
— А мы сейчас блинчиков испечем, — пропела Аксинья, еще не веря, что тоска переборет в ней радость, и изо всех сил сопротивляясь тоске. — А мы сейчас блинчиков испечем…
Она не знала, с чего вдруг повело ее на блины.
Аксинья оставила Кирилла сидеть на столе, убежала на кухню, засуетилась, кинувшись искать квашонку, и хлопнула себя, бестолковую, по лбу: да где же ей быть, квашонке-то, — в подполье спущена, чтобы не рассыхалась.
Она залезла в подполье, нашла там под лестницей квашню и, чувствуя, как тоска холодит изнутри все тело, выскочила наверх, бросилась опять обнимать Кирилла. Он, будто понимал, что с ней творится неладное, не сопротивлялся.
А она, дурачась перед ним, заприплясывала:
— Те-о-тушка Варва-а-ра, меня ма-а-туш-ка послала: дай сковороды да сковородничка, мучки да подмазочки, у нее вода в печи — хочет блины печи…
Кирилка заулыбался:
— А я бли-и-но-ов-то да-а-вно не е-ел…
— Ну вот, и поешь в охотку.
Зиновий смотрел на нее с фотографии неулыбчиво.
Аксинья воротилась на кухню, отставила от чела заслонку.
Дрова у нее уже были выложены в печи клетью, чтоб завтра, в темноте, не валандаться — поджечь бересту да подпихнуть под поленья огонь.
Она швыркнула спичкой — огонь занялся легко, сухие дрова сразу же запотрескивали, и Аксинья забеспокоилась, успеет ли растворить на блины. Она просеяла в решете муку и только тогда опомнилась: квашня-то зачем? Не пироги ведь собралась стряпать, вон под скамейкой глиняная луженка — ее как раз и хватит на всю семью.
Сполохи от печи играли на замерзшем окне. Аксинье показалось, что с улицы кто-то пытается заглянуть в избу, проскребает во льду глазок. Ей послышалось даже, как там кашлянули. Да ведь это же Василий! Вот говорят, старый хочет спать, а молодой играть. И старого на игру потянуло.
— Василий, ты? — сунулась она к окну. — Невеста-то у тебя блины печет…
Она отпышкала на стекле проталину: на улице уже никого не было, но и снег ни разу не скрипнул под валенком — значит, не убегал никто. Аксинья оторопело прижала руки к груди: ощущение, что кто-то просился к ней на блины, не оставляло ее.
— Кирюш, — вышла она из кухни и побоялась глянуть на военную фотографию Зиновия, — куда отец-то отправился?
— На ко-о-ню-ю-шне ко-о-рмушки чи-и-нит…
— Дак зови его на блины… Да и братьев тоже веди вместе с Настей.
Кирилл, отпутав валенки от лыж, сел на полу обуваться.
— А где я на-ай-ду-у их? — как еж, засопел он носом. — Они-и по всей де-е-ревне но-осятся…
— Кирюшенька, найди, миленький. — У Аксиньи выступили на глазах слезы. — Мы хоть всей семьей блины поедим… Я и стряпать не буду начинать, пока все не соберетесь.
Аксинья поправила в печи полыхающую клеть дров — самый бы жар сейчас, чтобы сковороду с растекшимся по ней тестом сунуть в огонь…
— Иди, иди, Кирюшенька. Я тебя подожду.
Да, Аксинья любила Кирилла. Он, как та сорока-вестунья в лесу, был для нее тонкой ниточкой надежды, которая обморочно обещала ей жизнь.
Пестерь — заплечный берестяной мешок для ягод или грибов.

![Леонид Фролов - Жемчуг северных рек [Рассказы и повесть]](/books/28036/leonid-frolov-zhemchug-severnyh-rek-rasskazy-i-pove-thumb.webp)