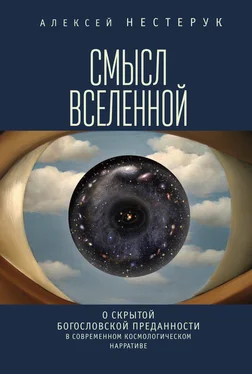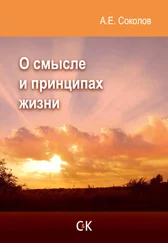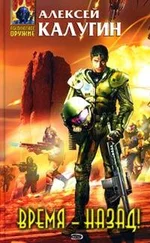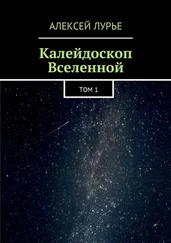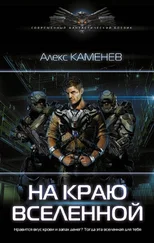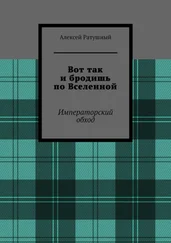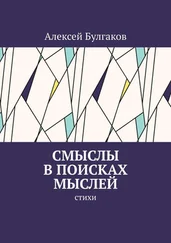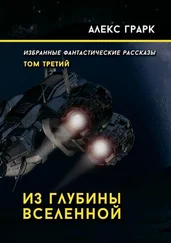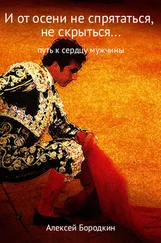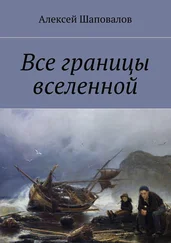Недаром подобное положение дел порождает вопрос, не является ли вселенная социальным конструктом в очень нетривиальном смысле. Речь идет о некой «мыслительном соглашении» (“thought convention”), достигаемым научным сообществом в процессе дебатов и ограниченном приоритетами исследования, вытекающими из социально-культурных факторов финансирования научных проектов. М. Харвит (M. Harwit) приводит интересные аргументы в пользу того, что развитие наблюдательной космологии во многом было предопределено технологическим прорывом после Второй мировой войны, в частности развитием радиоастрономии. Именно в силу этого современная космология знает очень много о четырех процентах детектируемого с помощью электромагнитных волн вещества во вселенной, в то время как остальные 96% остаются не интерпретированными именно в силу дефицита в данную эпоху соответствующих методов наблюдения. Принципиальные ограничения на возможность апробирования результатов космологических теорий проистекают из дороговизны или недоступности технических методов. В том смысле многие теории обречены оставаться не более социальными конструктами. (См. подробности в M. Harwit, In Search of the True Universe. The Tools, Shaping, Cost of Cosmological Thought (New York: Cambridge University Press, 2013), pp. 16–24, 152–153, 318–322).
См., например: М. Хайдеггер, Время картины мира // Время и бытие. Статьи и выступления. М.: Изд-во «Республика», 1993, с. 47. См. также Дж. Пэттисон, Размышления о Боге в век технологии. М.: Изд-во ББИ, 2011, с. 100–146.
Только любовь может дать доступ к «великому разуму», ибо любовь, данная в откровении Слова Божьего, то есть Логоса , проявляет себя как логос , то есть как разумность (рациональность, разум). Эта та разумность, которая осуществляет доступ к явлениям более близким и внутренним, тем, которые испытываются плотью . Откровение Христа показало, что любовь лежит в основании подлинного разума, который видит и говорит то, что обыденный рассудок упускает из виду.
См., например, о различных комбинациях отношений между наукой и религией работы: W. B. Drees, “A 3x3 Classif i cation of Science-and-Religion.” Studies in Science and Theology 4 (1996), pp. 18–32; I. G. Barbour, Religion in an Age of Science (San Francisco: Harper & Row, 1990); I. G. Barbour “Ways of Relating Science and T h eology”, in Physics, Philosophy and Theology: A Common Quest for Understanding, R. J. Russell et al. (eds.) (Vatican City State: Vatican Observatory, 1988), pp. 21–48.
St. Augustine, Contra Faustum , Book 32, 18, NPNF, Ser. 1, vol. 4, p. 581.
Бл. Августин Гиппонский, Исповедь, Кн. 10, XXIII, 34. М.: RENAISSANCE, 1991, с. 259.
Ср. Бл. Августин Гиппонский, О Троице, Кн. 12, XI, 16. М.: Образ, 2005, с. 86.
Б. Паскаль, О геометрическом уме и об искусстве убеждать // Г. Я. Стрельцова, Паскаль и европейская культура. М.: Республика, 1994, с. 449. (Пер. с французского B. Pascal, “De l’art de persuader”, en L’espirit géometrique et De l’art de persuader (Paris: Bordas Éditions, 2002) ( перевод изменен , АН)).
B. Pascal, Pensées (tr. Louis Lafuma), 377(280), p. 161. Другой исторический пример – работа прот. Павла Светлова «Вера и разум», написанная в 1916 году, в которой развивается мысль о том, что истинное познание предполагает любовь. Познание, как познание истины, возможно, если в человеке есть вера, но вера эта не есть простое психологическое данное, а есть определенная нравственная настроенность личности, которой можно достичь лишь через покаяние, что означает в данном случае принятие Христа. Но тогда и познание, как познание истины, не есть очевидность нашей жизни, а есть подвиг веры, в котором стирается четкая граница между верой и знанием: «само познание слагается как бы из двух моментов: первый момент, когда истина непосредственно постигается сердцем, второй когда в нее прозревает и ум: короче знание есть синтез веры и рассудка.» (Проф. прот. П. Светлов, Вера и Разум (Библейско-апологетический очерк) // Вера и Разум. Киев: Пролог, 2004, с. 33). Но как «Любовь» есть определение христианского Бога, так «любовь» входит и в определение самой сути верующего человеческого существа. Тем самым, когда познание связывается с любовью, речь идет не о познании, как чистом мышлении или как анонимной субъективности, а об акте познания как отношении личного бытия человека к той реальности, которую он любит всем сердцем (ср. с аналогичными рассуждениями В. В. Зеньковского в его «Основы Христианской философии». М.: Канон, 1996, с. 139–140.) Именно поэтому истинность познания глубоко связана с жизнью человека как личности: «Св. Писание…видит в знании полное выражение познающей индивидуальности, проявление совокупной деятельности всех сил человека; в нем выражается не одна какая-нибудь сторона духовной жизни, но вся жизнь.» (П. Светлов, Указ. соч., с. 38).
Читать дальше