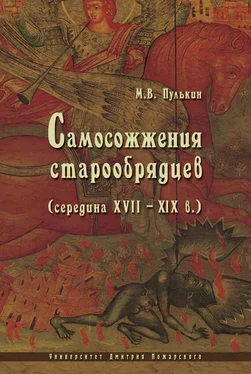В середине XIX в., столетие спустя, ситуация вновь повторилась. В мае 1860 г. в Каргопольском уезде произошло одно из последних в российской истории самосожжений. Судя по документам Каргопольского земского суда, три крестьянских семейства бежали в лесную избу, где позднее предались огню. Как указывал в своем донесении специально отправленный на место события чиновник, «все упомянутые крестьяне числом до 15 душ мужского и 6 женского пола найдены в недальнем расстоянии от деревни Савинской Волосовского прихода сгоревшими в лесной избушке». Внимательное изучение всех обстоятельств привело чиновника к однозначному выводу: «по признакам, сопровождающим это ужасное происшествие, можно с вероятностью полагать, что все они погибли по фанатической приверженности к тайной раскольнической секте». Неподалеку от места происшествия располагалась запруда, заполненная водой «в полроста человека» [704]. В ней, полагал чиновник, старообрядцы перед самосожжением совершали обряд крещения и даже пострижение «насмертников», что стало обычной практикой перед самосожжениями еще в конце XVII и в XVIII в.
Во-вторых , в показаниях очевидцев отмечена массовая исповедь. Судя по материалам расследования обстоятельств сибирского самосожжения 1738 г. в деревне Шадрино, все старообрядцы перед «гарью» явились на исповедь к старцу, авторитетному в их среде [705]. Есть и другие примеры. Так, один из старообрядцев, спасшихся из «гари» 1756 г. близ сибирского села Каменки, указывал на допросе в Тобольской духовной консистории: «последние минуты жизни посвящались на исповедование грехов, на общую пламенную молитву». При этом наставник, крестьянин Данило Санников «исповедал поодиночке всех женщин, потом мужчин всех зараз, но никого не приобщал». После этого он ушел, а собравшиеся «стали исповедовать свои грехи друг другу, снова стали на молитву, которая продолжалась до самого начала горения» [706]. Это общая закономерность в жизни верующих: русские крестьяне всегда осознавали, что «человеку нельзя умереть без покаяния» [707].
Перед самосожжением в деревне Лучинкиной Тюменского уезда, в 1753 г., судя по следственному делу, опубликованному Н. Загоскиным, велась длительная обрядовая подготовка. Местные жители, отлично осведомленные о предстоящей «гари», не пытались помешать самосожигателям и поэтому они могли действовать неспешно. Все «насмертники» «были облечены в белые одежды: мужчины – в белые кафтаны, женщины – в белые саваны». Для предстоящего самосожжения требовалась и телесная чистота: семейства, собирающиеся погибнуть в огне, предварительно парились в бане. В данном случае в поведении старца имелась весьма специфическая черта: «сподобиться самосожжения допускался не всякий». Старец, стоящий во главе сообщества, внимательно изучал действия кандидатов на участие в самосожжении, их повседневную жизнь, отношение к господствующей церкви и отстранял тех, кто совершил предосудительные, с его точки зрения, поступки. Так, «одна свидетельница показала, что, привезенная мужем своим к сожжению, она не была допущена к нему на том основании, что в минувшую осень приведена была кармацким попом к троеперстному крестному сложению и приняла от него Св. Тайны» [708].
В-третьих , важной составной частью подготовки к самосожжению являлось пострижение в монашество по «раскольничьему» обряду. К XVII в. в России широко распространилась «уверенность в преимуществе монашеской жизни для духовного спасения», что особенно ярко проявилось в «обычае пострижения в монахи или в схиму незадолго до смерти» [709]. По чистоте души постригающийся становился подобен схимникам или даже ангелам. Подробные сведения о пострижении в монашество, предшествующем «гари», приводит А.Т. Шашков. Он полагает, что имело место как добровольное пострижение с соблюдением всех правил, так и профанация обряда, объясняя возникновение этой традиции «мистериальной связью» между общинами самосожигателей и Соловецким монастырем, ставшим в конце XVII в. на краткое время главным оплотом «древлеправославной веры» [710]. Современные исследователи высказываются на эту тему более осторожно: «существенных различий между теми общинами, которые изначально уходили с целью совершить самосожжение, и теми, которые считали жизнь в скитах единственной альтернативой антихристову миру, нет» [711]. По этой причине примеры, подтверждающие существование стабильной практики пострижения, найти несложно. Однако нигде в источниках не содержится указаний на теоретически вполне допустимый вывод об открытом признании преемственности между соловецкими страдальцами за веру и самосожигателями. Первое упоминание о пострижении перед «гарью» относится к 1679 г. Старообрядческий наставник Даниил, основав на берегах реки Березовки в Тобольском уезде пустынь, постригал в монахи «многих людей» [712]. В 1784 г., столетие спустя, во время самосожжения в Ребольском погосте, имело место пострижение ряда активных участников подготовки к «гари» в монахи. Один из старообрядцев, находящихся в постройке, предназначенной для самосожжения, «быв в черном кукеле, говорил: “Я де уже в монахи пострижен”, а кем, того не сказал» [713].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу