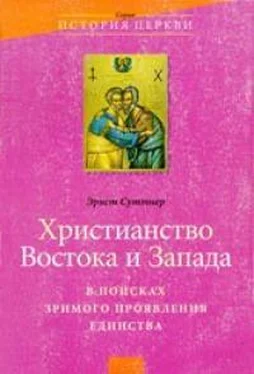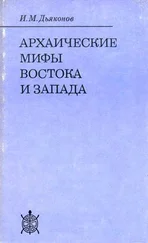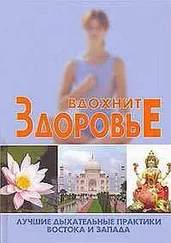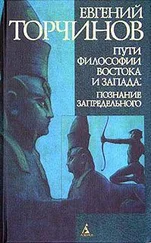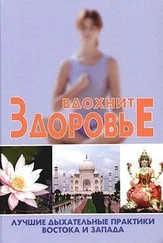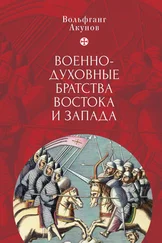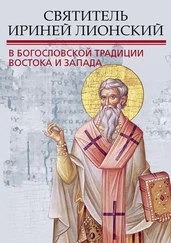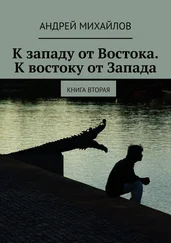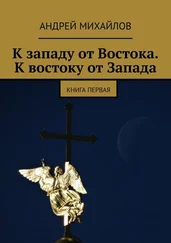Ср. сообщение у П. М, Волконского в «Краткий очерк организации Русской католической церкви в России». Львов, 1930, с. 33-36.
Пий X к этому времени, правда, уже умер, и его преемник Бенедикт XV не подтвердил те полномочия, которые дал его предшественник; ведь он, как ещё будет показано, совсем ничего о них не знал.
О его жизненном пути ср. P. Mailleux, Exarch Leonid Feodorov, New York 1964.
Szepticky, Das russische katholische Exarchat, S. 86f. Назначение экзарха произошло в мае 1917-го.
Где прежде был интернирован и Алексей Зерчанинов.
Незадолго до начала большевистской революции министр по делам исповеданий Карташев провел регистрацию Русской униатской церкви.
Николай Бок, тогдашний секретарь русского посольства при Святом престоле, который позже перешел в Католическую церковь и стал иезуитом, писал в своих воспоминаниях: «Выйдя на свободу, митрополит Шептицкий, вместо того, чтобы вернуться в Галицию, принадлежавшую теперь Австрии, остался в России. Он объяснял это тем, что собирался основать Русскую католическую церковь. Когда католики интересовались, кто уполномочил его на это дело, он отвечал, что действует по устному указанию папы Пия X. Кардинал Гасспари спросил меня, знаю ли я что-либо об этом указании, добавив, что ни в Государственном секретариате, ни в Конгрегации пропаганды не было никаких свидетельств подобного распоряжения. Он также спрашивал кардинала Мери дель Валь, который ответил, что ничего об этом не знает. „Устные поручения обычно употреблялись в апостольские времена, — продолжал кардинал Гасспари, — но весьма странно слышать о них в двадцатом веке“. Ссылку на покойного папу он нашел неубедительной. Полномочия, не ратифицированные преемником Пия, стали недействительны. Ватикан счёл затруднительным позволить митрополиту Шептицкому работать в России. Он не только был представителем народа-врага, но и австрийским сенатором, возглавлявшим антироссийскую партию. Ватикан опасался его вторичного заключения под стражу. Он также опасался, что католицизм, проповедовавшийся Шептицким, мог иметь оттенок враждебности по отношению к России. Поэтому он настоял на возвращении Шептицкого в свою епархию и вздохнул с облегчением, когда тот вернулся в Львов». N. Воск, Russia and the Vatican on the Eve of the Revolution, New York o.J., S. 33f.
I. Dimitru-Snagov, Le Saint-Siège et la Roumanie moderne (1866-1914) Rom 1989, 327f. Нет сомнения, что представитель правительства действовал под впечатлением тогдашних событий у болгар.
Ср. А. М. Ammann, Abriß der ostslawichen Kirchengeschichte, Wien 1950, S. 258-278 und 284-289; Johannes Chrusostomus OSB, Die religiösen Kräfte in der russischen Geschichte, München 1961, S. 118-124; P. Hauptmann, Art. Raskolniken, в LThK 2VIII. 993-995; P. Hauptmann — G. Strieker, Die orthodoxe Kirche in Rußland, Göttingen 1988, S. 354-369; Art. Rascol, в Diet. De Spirit. XIII (1988) 127-134; Art. Altglaubige в LThK 3I, 465-476; H.-D. Döpmann, Die orthodoxen Kirchen, Berlin 1991, S. 74-89 (по мере надобности с дополнительной литературой); Suttner, Rußland und die orthodoxe Kirchen в ders., Kirche und Nationen, S. 504-509.
Этот собор отличался от всех прежних соборов Русской церкви по составу, ведению и тематике. Митрополит Макарий (Булгаков) характеризует его в своей «Истории церкви» (во вступлении к рассуждениям о нём) таким образом: «Все Соборы, доселе бывшие в Русской Церкви, составлялись только из её собственных архипастырей с подчинённым им духовенством. Если же на некоторых наших Соборах мы встречали и инославных архиереев, иногда одного, иногда двух-трех, не более, то это были архиереи, случайно находившиеся в России, посещавшие её для своих личных целей, а не для участия в Соборах. [Следует перечисление трёх соборов, в которых принял участие даже патриарх из-за границы.] Не то мы видим на Соборе, теперь состоявшемся в Москве. На нём присутствовали не один какой-либо, а два Восточных патриарха: Александрийский Паисий и Антиохийский Макарий, и не случайно прибывшие в Россию для своих целей, а нарочито приглашённые в Москву для Собора. И если не было здесь лично двух других Восточных патриархов, Константинопольского и Иерусалимского, зато находились из Константинопольского патриархата пять митрополитов: Никейский Григорий, Амасийский Козьма, Иконийский Афанасий, Трапезундский Филофей, Варнский Даниил и один архиепископ — Погонианский Даниил, а из Иерусалимского патриархата и Палестины — Газский митрополит Паисий и самостоятельный архиепископ Синайской горы Анания, да кроме того, находились из Грузии митрополит Епифаний и из Сербии епископ Иоаким Дьякович. Всего же иноземных архиереев присутствовало теперь на Соборе двенадцать, чего прежде никогда у нас не бывало. [Следует перечисление принимавших участие русских иерархов.] Таким образом, на Московском Соборе 1666/67 присутствовали сперва два, потом три патриарха, Александрийский, Антиохийский и Московский, двенадцать митрополитов (5 русских и 7 иноземных), девять архиепископов (7 русских и 2 иноземных) и пять епископов (4 русских и 1 иноземный) — всего 29 иерархов..., и в числе этих иерархов находились представители от всех главных самостоятельных церквей православного Востока, не говорим уже о множестве архимандритов, игуменов и других духовных лиц, не русских только, но и иноземцев. Естественно, если такой Собор сравнительно со всеми прежними называется Большим Собором». См.: Макарий (Булгаков), История русской церкви, т. XII, 1883, с. 682-684.
Читать дальше