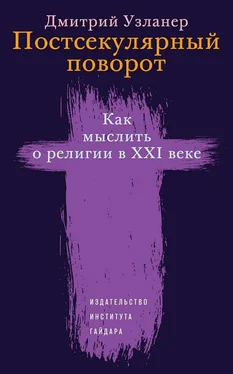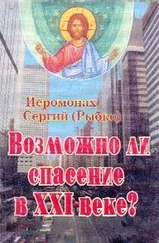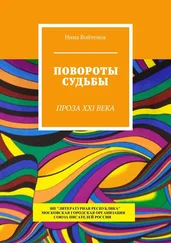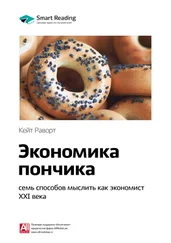Так, в частности, в России динамика политизации религии — и, прежде всего, православного христианства — во многом подчиняется логике того напряжения, которое существует между глобализацией и принципом национального суверенитета. Границы становятся все более прозрачными, а коммуникации все проще, что приводит к миграции религиозных идей и движений из одного региона в другой. Результатом становится ощутимое перекраивание религиозного ландшафта. Появляются транснациональные религии, которые используют артерии глобального мира для быстрого распространения и эффективного поиска новых приверженцев. У всех на слуху транснациональный ислам, однако не менее впечатляющий пример — современное пятидесятничество [696] См.: Martin D. Pentecostalism: The World Their Parish. Wiley- Blackwell, 2001.
. Это движение в рамках протестантизма представляет собой, вероятно, одно из самых быстро растущих религиозных движений в человеческой истории. За XX в. оно смогло вырасти с нескольких общин в Северной Америке до сотен миллионов приверженцев и мегацерквей во всех частях света. Есть они и на постсоветском пространстве — их рост начался сразу же после распада СССР и либерализации религиозного законодательства. Филип Дженкинс, известный американский религиовед, даже пошутил на этот счет: зачем советские граждане строили свои гигантские дома культуры? Чтобы протестантам после распада СССР было где проводить свои гигантские собрания [697] Jenkins Ph. God’s Continent: Christianity, Islam, and Europe’s Religious Crisis. Oxford University Press, 2009. P. 87–89.
.
Либерализация религиозного законодательства вкупе с транснациональными веяниями приводит к детерриториализации и деконфессионализации [698] См.: Казанова Х. Размышляя о постсекулярном: три значения «секулярного» и три возможности выхода за его пределы // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2018. 4 (36). С. 143–174.
— то есть к ослаблению связи между территорией и конфессиональной принадлежностью. Быть русским уже не подразумевает необходимость православного вероисповедания — доминирует принцип религиозной свободы и индивидуального выбора, который может быть сделан в пользу буддизма или, например, вышеупомянутого протестантизма. Все это в итоге приводит к появлению проблемы традиционных и нетрадиционных для данной территории религиозных идей и движений. Соответственно, те религиозные организации, которые считают данную территорию своей, начинают рассматривать транснациональные влияния в качестве угрожающих для своего выживания и привилегированного статуса.
В результате растет запрос на ужесточение религиозного законодательства и укрепление границ, препятствующих проникновению чуждых нетрадиционных духовных веяний. Традиционные религиозные организации начинают активно защищать свои канонические территории — свой духовный суверенитет. Однако сделать это можно лишь при помощи светской власти. Государство, в свою очередь, также обеспокоено глобализационными процессами, подрывающими в том числе и государственный суверенитет. Кроме того, усиливающаяся социальная значимость религии делает контроль за этой сферой важным направлением государственной политики — этот процесс называется секьюритизацией религии, то есть ее превращением в один из факторов национальной безопасности. В итоге государство идет навстречу традиционным религиозным организациям: происходит ужесточение законодательства для нетрадиционных религий вкупе с ограничением внешних религиозных влияний. По сути, происходит частичная ретерриториализация и реконфессионализация религиозной сферы. Взамен государство получает поддержку со стороны патронируемых религий: последние используют имеющийся у них символический капитал для сакрализации действующей власти.
На выходе сплав ретерриториализации и секьюритизации религии дает хорошо знакомую реальность борьбы за традиционные нравственные ценности, духовную безопасность и сохранение культурного цивилизационного кода путем противостояния пропаганде чуждых цивилизационных ценностей, распространяемых, согласно этой логике, вместе с проповедью нетрадиционных религий.
Политизация религии затрагивает в том числе и Западную Европу, которая выше была названа одним из последних бастионов секуляризации. Для объяснения этого парадокса — политизация религии на фоне преобладающего равнодушия к религиозной вере и практике — вспомним одно из остроумных описаний войны на Балканах: это был конфликт трех сторон, у которых был похожий язык, похожая культура, похожая история. Единственное, что их разделяло, — это религия, в которую они не верили. Здесь содержится глубокая интуиция: имеет значение не только та религия, в которую ты веришь, но и та, в которую ты не веришь. Человек, не верящий в ислам, — не то же самое, что человек, не верящий в христианство.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу