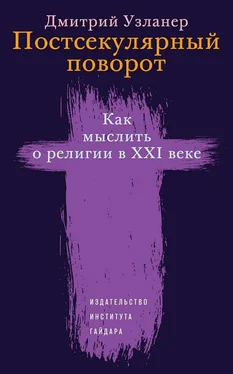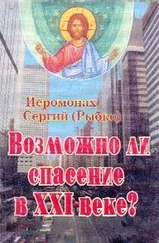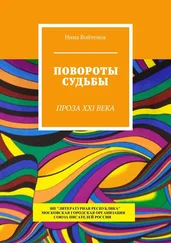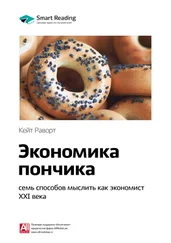Столкновение с исламским другим рождает фантазии о витальных, полных жизни «чужаках», которые вот-вот заместят одряхлевших «хозяев», оторвавшихся от собственных корней и погрязших в гедонизме. Эти фантазии усиливаются демографической тревогой по поводу низких показателей рождаемости у коренных европейцев. Отсюда упор на христианство как свою собственную культурную основу в противовес культурной основе «чужаков» и традиционные — прежде всего, семейные — ценности как панацею от демографических угроз, стоящих перед богатой и процветающей в материальном плане Европой. Христианская традиция превращается в своеобразный оберег от штурмующих Европу «иноверцев». Но одновременно христианские символы — это еще и протест против политики Европейского союза, которая ассоциируется помимо всего прочего с политикой поощрения различных меньшинств. Что некогда министр внутренних дел Италии и по совместительству лидер правой политической партии «Лига» Маттео Сальвини достал во время митинга в качестве символа своей борьбы? Католические четки [699] Binnie I. League leader pledges to put Italians first as election campaign intensifies // Reuters. 24 февраля 2018 [https://www.reuters.com/article/us-italy-election-league/league-leader-pledges-to-put-italians-first-as-election-campaign-intensifies-idUSKCN1G80O2, доступ от 05.01.2019].
! Надо сказать, что монахи-католики из монастыря на Севере Италии смеялись в голос при попытке обсудить с ними этот поворот итальянских правых к христианству. Настолько христианство не вязалось с традиционным образом партии «Лига Севера»! С одной стороны, это можно считать примером инструментализации христианской символики во имя политических целей, но, с другой стороны, какой другой символ может лучше выразить как неприятие мигрантов с их исламом, так и недовольство политикой Брюсселя, подрывающей национальный суверенитет отдельных членов Евросоюза?!
Заключение
Буквально на наших глазах религиозные описания все сильнее теснят прочие — национальные, этнические и т. д. В Европе, а отчасти уже и в России, проблема сирийских, турецких, алжирских, узбекских, таджикских мигрантов растворилась — по крайней мере, в средствах массовой информации — в проблеме ислама. Религиозный фактор, возникнув, не просто не исчез, но умудрился подмять под себя все остальные. Межэтнические, межнациональные и даже межгосударственные противостояния снова стали религиозными, как это было в XVII в., — может быть, не по сути, но как минимум в общественном сознании. А учитывая кризис секулярных идеологий и мировоззрений, нет никаких оснований полагать, будто бы религию подобно джину снова удастся загнать в ту бутылку на дне морском, в которой она находилась последние столетия. В этом контексте значимым — в том числе и политически значимым — вопросом становится не вопрос о том, религия или не религия, но вопрос о том — какая религия. Более рациональная или менее рациональная, более демократическая или менее демократическая, более мирная или менее мирная, более терпимая или менее терпимая. Отсюда напрямую следует возрастание значимости теологии и теологических дискуссий. Идет борьба за душу религиозных традиций, от исхода которой все сильнее зависит мир на планете Земля.
Приложение
Как борьба за науку превращается в свою противоположность [700] Опубликовано ранее как: Узланер Д. Как борьба за науку превращается в свою противоположность // Логос. 2018. № 28 (6). С. 164–179.
Рецензия на книгу: Апполонов А. В. Наука о религии и ее постмодернистские критики. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2018. — 240 с.
Новая книга Алексея Апполонова посвящена защите науки о религии от тех, кого он считает ее врагами. Эти враги прибегают к всевозможным уловкам с целью «дискредитации научного знания и продвижения своих антинаучных концепций» (232). Главная уловка, разоблачению которой, собственно, и посвящена книга, — попытка поставить понятия «религия» и «светское» под вопрос: усомниться в универсальности этих понятий, равно как и стоящих за ними явлений; рассмотреть их историю; показать вплетенность их в конкретно-исторический политический, социальный, культурный контекст; наконец, рассмотреть саму науку о религии, то есть дисциплину, оперирующую этими понятиями, не как беспристрастный «взгляд из ниоткуда», но как человеческую деятельность, которая сама вплетена в исследуемый ею конкретно-исторический контекст. По сути, книга Апполонова — это разоблачение целого академического направления, которое может быть названо «критическим подходом к науке о религии» или же «критическим исследованием религии» [701] См. https://criticalreligion.org; http://www.criticaltheoryofreligion.org.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу