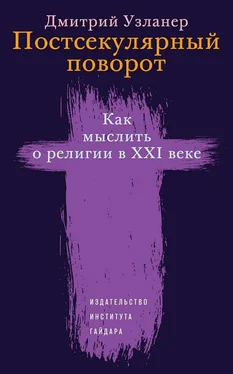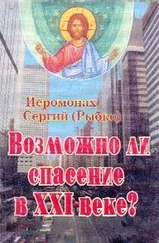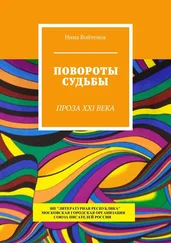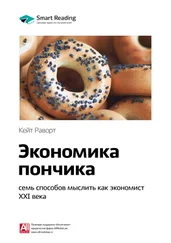В силу таких установок религиозный подъем конца XX в. был встречен исследователями с надеждой. В знаковой монографии «Публичные религии в современном мире» (1994) Хосе Казанова оптимистично высказывался по поводу усиливающей свою общественно-политическую значимость религии, которая, как он считал,
служила и продолжает служить как защитник от «диалектики просвещения», как поборник прав человека и гуманистических ценностей, которым угрожают секулярные сферы с их абсолютными притязаниями на внутреннюю функциональную автономию [682] Casanova J. Public Religions in the Modern World. The University of Chicago Press, 1994. P. 39.
.
Эти выводы не были спекуляцией, они были основаны на анализе активного участия религиозных организаций в общественной жизни Испании, Польши, Бразилии и т. д. Однако маятник быстро качнулся в другую сторону — в сторону наиболее консервативных и даже фундаменталистских сил внутри религиозных традиций. Приведу пример, касающийся России: до самого начала XXI в. исследователи часто писали о том, что внутри русского православия есть несколько основных крыльев — фундаменталистское, центристское и либеральное [683] Костюк К. Три портрета: социально-этические воззрения в Русской православной церкви конца XX века // Континент. 2002. № 113. С. 252–287.
. Однако с тех пор либеральное крыло то ли исчезло, то ли ушло в глубокое подполье, тогда как центр заметно сместился вправо.
Религия как слепое пятно
Осознанию того, что религия является полновесным фактором, влияющим в том числе и на политические процессы, мешает «секулярная предвзятость» интеллектуалов, то есть тех, кто призван заниматься осмыслением ключевых трансформаций современного мира. Под «секулярной предвзятостью» я имею в виду не отсутствие личного религиозного опыта, но отказ воспринимать религию всерьез. Речь идет о глубоко засевшем убеждении, согласно которому религия и религиозность — в лучшем случае «надстройка» над более серьезными элементами общественно-экономического «базиса», которая пусть и может впечатлить несколько суеверных старушек, но которая уж точно не способна превратиться в силу, оказывающую влияние на столь «серьезную» сферу, как политика.
Питер Бергер писал о том, что в современном мире бушующей религиозности остается, по сути, всего два островка секулярности. Во-первых, Западная и Северная Европа, которая в силу особенностей своего исторического развития — в частности, сильного влияния идей антирелигиозного французского Просвещения — подверглась глубокой и фундаментальной секуляризации. Во-вторых, вестернизированная высокообразованная элита, существующая во всех частях света и задающая доминирующие описания социальной реальности, которые — вполне в соответствии с их собственной «секулярной предвзятостью» — рисуют мир гораздо менее религиозным, чем он есть на самом деле [684] Berger P. The Desecularization of the World. P. 9–11.
. Секулярная оптика элит делает создаваемые ими описания слепыми по отношению даже к самым очевидным проявлениям религиозности. Типовая реакция на религиозное возрождение — попытка представить его всего лишь как «временные трудности», после которых победный тренд секуляризации снова продолжит свое триумфальное шествие. Все это напоминает скорее какую-то квазирелигиозную веру в торжество разума и прогресса, чем констатацию того, что происходит в реальности.
В результате осмысление религиозных процессов — в том числе и тех, которые непосредственно затрагивают сферу политики, — оказывается чрезвычайно замедленным, запаздывающим. Господствующая секулярная оптика интеллектуальных элит фиксирует всплески религиозности лишь тогда, когда не замечать их оказывается уже невозможным. Хорошая иллюстрация этого — немецкий философ Юрген Хабермас, убежденный сторонник секулярного мировоззрения. Чтобы пробудить Хабермаса от догматического сна, понадобился взрыв башен-близнецов «9/11» [685] Хабермас Ю. Вера и знание / пер. с нем. М. Л. Хорькова // Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. М.: Весь мир, 2002. С. 115–131.
. После этого он, наконец, заметил религию и пришел к мысли о том, что ее нельзя игнорировать: из этого пробуждения выросла теория постсекулярного общества, суть которой в осмыслении того, как интегрировать верующих сограждан в структуру принятия решений современных либеральных демократических конституционных государств [686] Хабермас Ю. Религия и публичность. Когнитивные предпосылки для «публичного использования разума» религиозных и секулярных граждан // Хабермас Ю. Между натурализмом и религией. Философские статьи. М.: Весь мир, 2011.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу