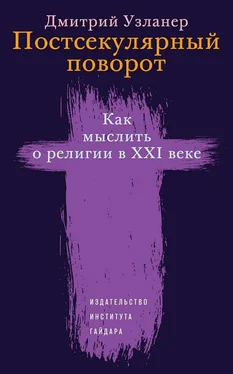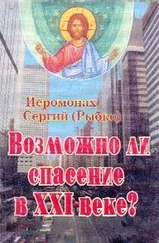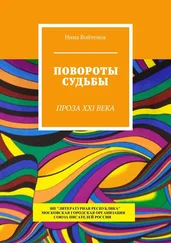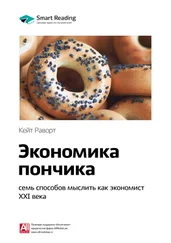Православие остается доминирующей конфессией в России. Абсолютное большинство россиян — 92–93 % опрошенных — относятся к православным с уважением и доброжелательностью, а это значит, что позитивные установки в отношении к ним разделяют не только они сами, но и люди других вероисповедания или атеисты [667] «Религиозность» // Левада-центр. 18.07.2017 [https://www.levada.ru/2017/07/18/religioznost/, доступ от 11.05.2019].
.
Единственный аспект, в котором проправославный консенсус начал проседать даже согласно опросам, — это отношение к представлению о том, что церковь должна влиять на принятие государственных решений. Число людей, не одобряющих это представление, выросло с 27 % в 2005 г. до 36 % в 2017-м, в то время как число тех, кто его одобряет, уменьшилось с 16 % в 2005 г. до 6 % в 2017-м. Такая же тенденция очевидна в том, как индивидуумы оценивают влияние церкви на государственную политику в России. Число тех, кто думает, что это влияние чрезмерно, растет, в то время как число разделяющих противоположный взгляд уменьшается [668] Там же.
. В свете этих данных можно сделать аккуратный вывод о том, что тезис о конце проправославного консенсуса хотя бы частично подкрепляется результатами недавних опросов общественного мнения.
Я предпочел не обсуждать достоверность этих данных по той причине, что других у нас пока нет. Однако, исходя из методологической рефлексии, изложенной в начале этого текста, я утверждаю, что расхождения между опросами общественного мнения и стоящей за ними реальностью не являются каким-то специфическим российским явлением, но встречаются часто и повсеместно.
Таким образом, хотя данные опросов поддерживают мой тезис лишь отчасти, внимательное рассмотрение культурных тенденций и явлений позволяет говорить о серьезных трансформациях. РПЦ становится эпицентром практически непрекращающихся конфликтов. Негатив, ассоциируемый с православием, возрос настолько, что почти любой слух, любое обвинение — даже самое несправедливое — «раздувается» и привлекает широкое внимание общественности. Это верно по крайней мере в отношении СМИ, неподконтрольных церкви или государству. Официальная пропаганда, в свою очередь, интерпретирует этот негатив как «информационную войну» и даже глобальный заговор против церкви.
В этом исследовании я избегал вопроса о социологических цифрах или демографическом субстрате, стоящем за концом проправославного консенсуса. Я не утверждаю, что антирелигиозные настроения стали новым мейнстримом. Я не знаю в точности, какие именно социальные группы выпали из этого консенсуса. Не уверен я и в том, что описанные мной тенденции не будут в конечном счете жестоко подавлены и искоренены государственной властью (может быть, с подачи церкви) под флагами борьбы с чужеродной агрессией против российской цивилизации. Мой тезис более скромен: российское православие более не является фактором национального консенсуса. Оно становится фактором национального конфликта, еще одним расколом, разделяющим российскую нацию. Ученые, инициировавшие обсуждение проправославного консенсуса, не предвидели этого парадокса. По мере того, как РПЦ все в большей мере сближалась с государством, она становилась ключевым идеологическим элементом «консервативного поворота» и получала юридические и материальные преимущества. Однако этот успех на макроуровне совпал с провалом на мезоуровне, том самом, на котором позиции церкви до сих пор воспринимались как сильные и непоколебимые.
Этот текст начался со ссылки на классическое исследование Липсета и Роккана. Если использовать их оптику, то в таком случае конец проправославного консенсуса выглядит как нормализация религиозной ситуации в России: мы приходим к стандартному общественному расколу по линии отношения к церкви и религии. Таким образом, проправославный консенсус можно считать специфическим постатеистическим феноменом, который не мог продолжаться долго. Конфликт вокруг церкви и религии является знаком того, что Россия возвращается к стандартному паттерну европейских наций, разделенных по вопросам религии. Однако Фурман и Каариайнен, авторы концепции проправославного консенсуса, предлагают альтернативную оптику, в которой реакция российского общества на религию представлена в виде раскачивающегося маятника — от полного отвержения религии к ее полному принятию [669] Фурман Д., Каариайнен K. Религиозность в России в 90-e годы XX — начале XXI века. С. 7–11.
. В такой перспективе мы, возможно, являемся свидетелями обратного движения маятника — от гегемонистской религиозности к ее не менее гегемонистскому отрицанию. Так что же перед нами — нормализация или очередное колебание маятника? Оставим этот вопрос открытым.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу