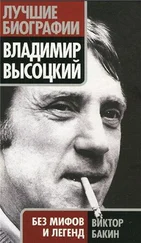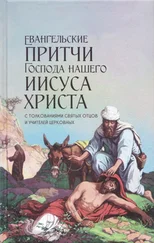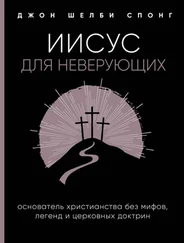Самаритянин – полукровка, нечистый, еретик – не был заражен ни племенной, ни религиозной исключительностью
Иисус придавал смысл цельности и смотрел на суть нашей природы совершенно иначе. Он полагал, что человечность одного могла соприкоснуться с человечностью другого и дать тому силы преодолеть и страхи, и племенные системы охраны, и всевозможные предрассудки, и прочие границы, за которыми люди ищут иллюзорную безопасность. Не только он один мог это сделать. Призыв Бога, явившего себя в Иисусе, совершенном человеке, сделал смысл человечности даром для всех. Именно поэтому в человеке по имени Иисус люди видели то, что называли Богом. Его человечность открыла его жизнь для всего, что означает слово «Бог». Кто бы ни встретил Иисуса, они испытали это новое качество жизни. Они видели эту жизнь, чувствовали ее, притязали на нее. Именно этого Иисуса мы ищем, и нам ни к чему толкования I века. Это большая разница.
Иоанн в своем Евангелии объединил отношение к самаритянам и отношение к женщинам – и показал, как люди-эгоисты, желающие только выжить, справляются с травмой самосознания и страхом собственной неполноценности. Общее предубеждение против самаритян есть и у Иоанна. Он приводит историю, где некто из толпы евреев бросает Иисусу: «Не правильно ли мы сказали, что Ты – Самарянин, и бес в Тебе?» (8:48). Самаритянин, да еще и одержимый – заведомое оскорбление. Но еще раньше Иоанн привел рассказ о самаритянке: о персонаже, в патриархальном обществе тех лет вдвойне неполноценном. Вот о чем эта история (Ин 4:7–42, в пересказе).
Самаритянка пришла к колодцу за водой. Иисус, сидевший один у колодца, попросил у нее напиться. Ее поразило вопиющее нарушением обычаев: он, еврей, просит воду у самаритянки! (Тут Иоанн прерывает основную сюжетную линию, чтобы удостовериться, что его читатели понимают, сколь неприличным было такое поведение.) Иисус продолжал сознательно нарушать культурный запрет и вел беседу. Знай ты, кто перед тобой, сказал Иисус, сама попросила бы в дар «воды живой». В еврейском мире «живая вода» всегда служила синонимом для Святого Духа, которого, прежде всего, считали подателем жизни [77] Обратите внимание на строчку в никейском Символе веры, где говорится: «[верую] в Духа Святого, Господа животворящего …»
. Женщина, все еще скованная буквализмом, ответила, что Иисус никак не мог дать ей воду. «Тебе и зачерпнуть нечем, и колодец глубок», – сказала она, и затем сравнила Иисуса – не в его пользу – со своим предком Иаковом, который ископал этот колодец.
Тогда Иисус вернулся к более глубокому значению воды как духовной или жизненной силы. Вода в колодце утоляет жажду лишь на время, но та возвращается, сказал он. Стремление выжить – как жажда: его алчешь бесконечно, каждый день, но, как ни старайся, окончательного успеха не добиться. Конечность и смертность – часть нашей сути. Тоска по цельности похожа на желание утолить жажду раз и навсегда. Вода, которую должен был дать Иисус, по его словам, нарушит бесконечный цикл человеческих поисков власти, успеха, всего того, что приносит лишь временную победу, и тогда он предложит людям источник воды, «текущей в жизнь вечную». Женщина, желая такого дара, но все еще понимая его слова на самом буквальном уровне, попросила дать ей эту «живую воду» – и тем облегчить ей жизнь, ведь ей уже никогда не придется ходить за водой к колодцу. Иисус поддержал и разговор, и надежды женщины, сказав ей: «Иди, позови мужа твоего и приходи сюда», – видимо, подразумевая, что после этого она получит то, о чем просила.
В этом месте рассказа женщина была вынуждена признать неудачу своих собственных поисков полноты человеческого существования. «У меня нет мужа», – ответила она. Тогда Иисус, по словам Иоанна, открыл ей глаза на зыбкость ее положения: «Было у тебя пять мужей, – сказал он, – и тот, который у тебя теперь, тебе не муж». Пораженная тем, что этот незнакомец так глубоко заглянул в ее душу, самаритянка решила призвать на помощь Бога. Она спросила, следует ли поклоняться Богу на священной горе самаритян или же в Иерусалимском Храме, где, по мнению евреев, пребывал Бог. Иисус перевел разговор в другое русло и сказал: истинное поклонение не связано ни с местом, ни с формой, но с жизнью в Духе, где обретается цельность и выявляется истина. Женщина снова сменила тему, перейдя к идее пришествия Мессии. Это был чисто теистический образ: Мессия в ее сознании был сверхъестественной фигурой, сошедшей с небес ее спасти. У Иоанна Иисус назвал себя Мессией, но дал и новое определение «Мессии» как того, кто зовет жить в единстве, в цельности и в полной мере, – это совсем иное, нежели просто «спаситель».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
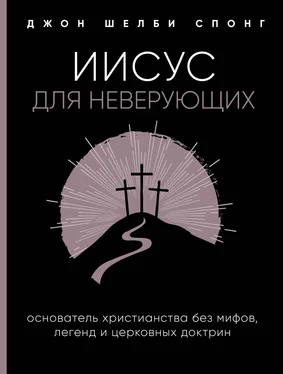
![Автор неизвестен Эпосы, мифы, легенды и сказания - Самые лучшие английские легенды [The Best English Legends]](/books/34729/avtor-neizvesten-eposy-mify-legendy-i-skazaniya-s-thumb.webp)