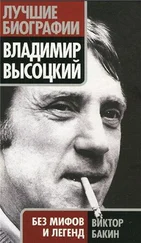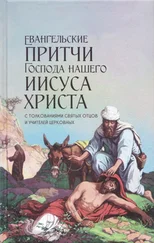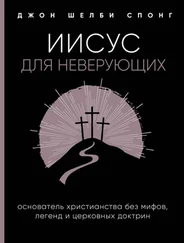Матфей начинает Евангелие историей о звезде, воссиявшей на небесах, чтобы объявить о рождении Иисуса. Свет этой звезды не ограничен национальными рубежами еврейского мира. Звезды, которые можно наблюдать в любой стране мира, – универсальный символ, доступный всем, и эта-то звезда, по словам Матфея, привлекла внимание волхвов. Преодолев все тревоги и страхи, вызванные межплеменными барьерами, эти язычники отправляются к месту, где, как утверждает Матфей, родился Иисус. В этом смысл его вступительной истории, и не следует упускать его из вида, воспринимая историю волхвов буквально. Перед нами не история о реальных людях, которые когда-то следовали за настоящей блуждающей звездой. Если мы не прочтем правильно эту вступительную историю, если мы не признаем, что волхвы – символ язычников, которых привлек к себе Иисус, то неизбежно упустим важнейший вывод Матфея, поскольку и завершающая история в его Евангелии отличается той же силой и выразительностью. В ней Матфей изображает воскресшего Христа на горной вершине в Галилее, где он обращается к группе учеников с единственными словами, которые Матфей приписывает послепасхальному Иисусу. Безусловно, такого рода последняя речь, по замыслу автора, должна была иметь особое значение. И что же это за слова? Та же весть, что когда-то привлекла язычников к еврейскому Иисусу, но уже обращенная в иную сторону. По утверждению Матфея, Иисус в последней речи призвал своих еврейских учеников идти в земли язычников: «Итак, идите, научите все народы… уча их соблюдать всё, что Я заповедал вам [как, например, «да любите друг друга, как Я возлюбил вас»]. И вот, Я с вами все дни до конца века» (Мф 28:19–20). Идите к язычникам, говорил он. Выйдите за пределы ваших страхов, идите к тем, кто отличается от вас, кого вы считаете нечистыми, и поделитесь с ними беспредельной любовью Божьей.
Миссионерский призыв, лежавший в основе не только этих стихов, но и христианства как такового, ставил целью вовсе не обращение язычников, как утверждало имперское христианство спустя века. Это не указание, смысл которого в том, чтобы заставить других смотреть на Бога твоими глазами. Скорее, это приглашение войти в опыт нового человечества, не знающего ни племенных границ, ни борьбы за выживание. Это требование поделиться со всеми людьми живительной силой любви, которая неизменно обогащает нашу жизнь и дает нам свободу выйти за границы безопасных убежищ. Вот чем был и остается опыт Иисуса.
У Луки та же тема: все едины, отбросьте покров племенных предрассудков, станьте совершенными людьми. Более того, она получает драматическое развитие. Лука, автор Евангелия, носящего его имя, а также Книги Деяний, создал повествование, в котором Иисус начинает свою жизнь и служение на окраине еврейского мира, в малозначительном селении Назарет, а затем совершает путешествие в самое сердце еврейского мира, в Иерусалим, чтобы охватить силой любви и этот город, и его фанатически религиозных и ограниченных жителей. У Луки ни Иисус, ни ученики так и не возвращаются в Галилею; скорее, он показывает нам, как этот вновь зародившийся универсализм расходится вплоть до самого сердца язычества, столицы всего нееврейского мира – города Рима, где рассказ Луки заканчивается.
Лука завершает Евангелие, напоминая читателям, что ученики Иисуса были свидетелями значения жизни Иисуса, прошедшего путь от страдания и смерти к воскресению с единственной целью – чтобы его весть провозглашалась «во всех народах, начиная с Иерусалима» (24:47). Идите за границы племени к человечеству, говорит он. Те же указания Иисус повторяет у Луки и в Книге Деяний: «Вы будете Моими свидетелями и в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии, и до предела земли» (1:8). Пожалуйста, заметьте, что «предел земли» означает здесь языческие страны. По сути, он призывает выйти за рамки менталитета выживания, препятствующего подлинной человечности, и, переступив племенные границы, отправиться к тем, кого потребность в безопасности заставляет ненавидеть или считать нечистыми. В этом Иисусе есть нечто, стирающее все границы, зовущее за грань сложившихся систем, к новому человечеству, уже не огражденному защитными барьерами. Вот одно из важнейших измерений того, что мы имеем в виду, говоря о присутствии Бога в человеке Иисусе.
Наконец, когда Лука в той же Книге Деяний излагает историю о том, как Святой Дух излился на группу учеников, которые в страхе скрывались в горнице, пережитый смысл встречи с Иисусом обретает новое и драматическое подтверждение. В этом рассказе ученики Иисуса впервые уполномочены стать Церковью, Телом Христовым. В рассказе о Пятидесятнице присутствие Святого Духа позволило им переступить племенные границы, символом которых было различие в языках: они заговорили на тех языках, которые понимали их слушатели. Чтобы придать своей вести больший вес, Лука добавляет: среди этих слушателей были «Парфяне, и Мидяне, и Эламиты, и живущие в Месопотамии, в Иудее и Каппадокии, Понте и Асии, Фригии и Памфилии, в Египте и в частях Ливии, примыкающих к Киринее, и пришедшие из Рима, как Иудеи, так и прозелиты, Критяне и Арабы» (Деян 2:9–11). Учитывая уровень географических познаний в I веке нашей эры, перечень весьма внушителен, он охватывает территории от Ливии и Рима на западе, Грецию, земли арабов, персов и вавилонян вплоть до Месопотамии, расположенной в долине Тигра и Евфрата, в сердце современного Ирака.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
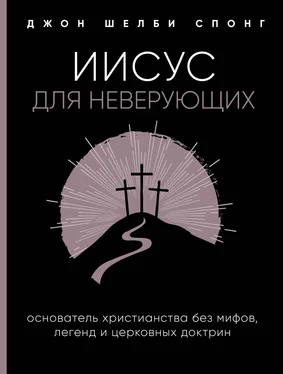
![Автор неизвестен Эпосы, мифы, легенды и сказания - Самые лучшие английские легенды [The Best English Legends]](/books/34729/avtor-neizvesten-eposy-mify-legendy-i-skazaniya-s-thumb.webp)