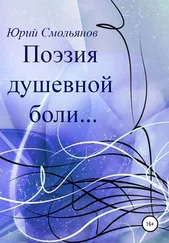Таким образом, подавляющее большинство современных людей на поверку не имеют почти никакой защиты от возникновения пустых усилий. А если они обладают душевными свойствами, предрасполагающими к фиксации на них, они попадают в эту ловушку снова и снова.
Люди, считающие себя «в широком смысле» религиозными, но не признающие глубинной искореженности человеческой природы, и естественнонаучные детерминисты, не прилагающие последовательно детерминизм к собственной душе, сходятся в одном: и те, и другие неправомерно превозносят возможности человека. Первые – потому, что недооценивают испорченность его духовного состояния, вторые – потому, что переоценивают его удаленность от природы. И тех, и других – можно назвать «беспочвенными гуманистами». И для тех, и для других «человек – звучит гордо». И для тех, и для других человек «сам себя делает» и сам собой руководит. И для тех, и для других человек нигде по настоящему не укоренен. Беспочвенный гуманизм – это та идеология, которое в наше время навязывается массовой культурой – идеология «общества равных возможностей», где человек якобы может свободно выбирать себя, реализуя эти якобы равные возможности. Идеология достижения успеха и высокого уровня потребления, как показателя качества работы над собой и «преодоления» себя. Идеология, при которой вера человека в собственные величие и грандиозность разрослись настолько, что человек поместил себя в центр мироздания, и при этом оказался отрезанным, отделенным от Целого и подвешенным в пустоте самоопределения. Сама общественная ситуация таким образом провоцирует пустые усилия в предрасположенных к ним индивидуумах.
Долгосрочная терапия пустого усилия нужна для людей с тревожно–ригидными душевными свойствами, попавших в ловушку «беспочвенного гуманизма». Именно в этих условиях пустые усилия «расцветают пышным цветом». Именно такие «беспочвенные гуманисты» подвержены душевной боли, связанной с попытками прямого волевого самоконтроля.
Конечно, когда мы говорим о работе с пациентами на уровне мировоззрения, мы не имеем в виду навязывание той или иной определенной мировоззренческой модели, несущей в себе противоядие против пустых усилий. Мы не склоняем пациентов к православию, буддизму или естественнонаучному взгляду на мир. Мировоззрение – это тонкая материя, это личное дело. Это – выбор каждого (свободный или несвободный, но в любом случае интимный), и выбор этот, наверное, не в компетенции психотерапии. Но, следуя нашей цели – уменьшить количество страдания, связанного с пустыми усилиями, мы должны показать пациентам, что есть идеологии, провоцирующие пустые усилия, и есть идеологии, их предотвращающие. И конфронтация с «беспочвенным гуманизмом» становится тогда насущным и необходимым психотерапевтическим делом. Долгосрочная терапия пустого усилия, стало быть, в современном мире должна быть проникнута нонконформизмом в хорошем смысле этого слова.
Думаю, в долгосрочной терапии пустого усилия мы можем пациентам предложить значительно больше, чем просто ситуационное обезболивание или решение конкретной психологической проблемы. Оставаясь в рамках психотерапии, мы можем заниматься здесь профилактикой пустых усилий, мы можем научить пациента их предвидеть, вовремя их замечать и самостоятельно их развенчивать. Мы можем помочь им поставить пустые усилия под контроль. Мы можем, таким образом, помочь им пользоваться всеми преимуществами языка и мышления, сведя к минимуму побочные эффекты последних в виде лишнего, не оправданного реальными обстоятельствами жизни страдания.
И еще один момент. Хорошим тестом на личностную идеологию, предрасполагающую к пустым усилиям может служить вопрос: «Отличается ли чем-нибудь «чувство долга» от «благого желания» и, если отличается, то чем?» Люди, идеологически предрасположенные к пустым усилиям, часто отвечают на этот вопрос положительно. Так, например, «долг перед семьей» и «желание заботиться о семье» являются для них разными вещами.
«Желание» выглядит для них как нечто однозначно искреннее, идущее от сердца, но при этом ненадежное, легко подверженное переменам. Такое желание – это то, что хорошо иметь, но при этом то, на что нельзя полагаться. Желанием нельзя управлять – во всяком случае, осознанно большинство людей в такое управление не верят.
Напротив, «чувство долга», может быть не столь искренно и непосредственно, зато значительно более надежно. «Долг» можно в себе поддерживать – и не в последнюю очередь волевым напряжением. Так, говорят, чтобы выполнить долг, нельзя «расслабляться» – это главная опасность для «долженствователя». Следовать или не следовать долгу зависит от внутренних волевых усилий. И усилия эти возможно приложить тогда, когда желание по каким-то причинам слабеет, угасает. То есть, якобы можно что-то делать благодаря именно чувству долга, без опоры на ветреное желание.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


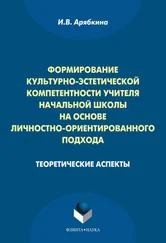
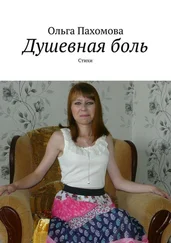


![Марк Сандомирский - Защита от стресса [Физиологически-ориентированный подход к решению психологических проблем (Метод РЕТРИ)]](/books/424168/mark-sandomirskij-zachita-ot-stressa-fiziologicheski-orientirovannyj-podhod-k-resheniyu-psihologicheskih-problem-metod-retri-thumb.webp)