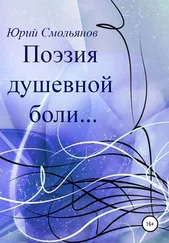Мы видим теперь что и с естественнонаучной точки зрения, и с точки зрения религиозной, пустые усилия есть нечто нелепое, но при этом необходимо вкрапленное в саму ткань человеческого существования (во всяком случае, в ткань существования многих людей). Необходимо в том смысле, что они возникают неминуемо. Склонность к ним задается самой человеческой ситуацией – биологической или духовной. Но то, что пустые усилия возникают с неотвратимостью, еще не значит, что они должны надолго задерживаться. Стало быть, научиться дезактивировать свои пустые усилия – значит совершить маленькую (а, может быть и не маленькую) революцию в самих основах своего самоотношения, в смысле изменения восприятия собственных возможностей.
Наверное, можно сказать, что христианин, попавший в тиски пустого усилия, временно и незаметно для себя как бы «скатываясь» в пелагианскую ересь, в этот момент выпадает из базовых установок собственной веры. Если бы эти базовые установки оставались бы все время актуальными, более ли менее значимая фиксация на пустых усилиях была бы невозможна.
Надо думать, чем ближе последователь буддизма к «пробуждению», чем больше буддистская Дхарма пронизывает его существование, тем меньше он попадает в сети неведения и двойственного восприятия. Тем более он свободен и от идеи самоконтроля, стало быть тем меньше он способен генерировать пустые усилия.
Исходя из этого можно предположить, что если мы в терапии пустого усилия имеем дело с «практикующими» религиозными людьми, людьми, живущими в религиозной системе, последовательно идущими по пути, этой системой предложенным, людьми, у которых религия стремится проникнуть во все поры жизни, – наша роль здесь не будет выходить за рамки ситуационного обезболивания, краткосрочной помощи. Мы поможем ему справиться с какой-то конкретной проблемой, быть может, окажем ему серьезную поддержку в каком-то особенно тяжелом периоде в их жизни. Но от нас вряд ли потребуется профилактика. Конечно, мы пригласим его задуматься о том, как его пустые усилия соотносятся с духовным учением, которое он исповедует. И мы можем (по крайней мере, в идеале) рассчитывать здесь на то, что функцию профилактики, предотвращения возникновения возможных пустых усилий в будущем возьмет на себя его духовная практика, что об этом позаботится сама система его духовной трансформации. По–видимому, так оно и бывает.
Отметим так же, что и последовательное «исповедание» естественнонаучного мировоззрения тоже сделало бы упорные пустые усилия невозможными. Если все детерминировано, и любой мой выбор причинно обусловлен, то детерминировано даже само мое волевое напряжение. То есть нужное, необходимое для решения стоящей передо мной задачи, естественное напряжение воли не может не произойти, независимо от того буду ли я пытаться его контролировать или нет. Мне в этом случае остается только одно отношение к собственному ощущению того, что я прямым волевым образом контролирую себя – как к иллюзии, «оптическому обману». Не выпадать из этого понимания – значит не иметь лишнего, ненужного, пустого напряжения.
Но согласитесь, глубоко верующих и последовательных в вере и религиозной жизни людей в наше с вами время очень мало. Немало людей в России назовут себя православными, но лишь единицы из них регулярно посещают службы (а не просто «ставят свечки» и просят у Господа помощи в разрешении житейских дел, и иногда исполняют «обряды»). И еще меньшая часть из них пытается осмыслить глубинные положения христианского вероучения, и увидеть в их свете собственные душевные движения.
С последовательным естественнонаучным мировоззрением ничуть не лучше. Мы знаем, что эта установка в современном мире тоже достаточно сильна. На рациональном уровне многие привержены естественнонаучному взгляду на мир. Но вера в прямой волевой самоконтроль, несмотря на естественнонаучные взгляды, живет как бы подсознательно, как бы «контрабандой» минуя «таможню» рационально–сознательной детерминистской установки. И такая незаконная жизнь не мешает ей (вкупе с другими факторами) создавать ловушки нереализуемых стремлений. Для человека, «исповедующего» естественнонаучный детерминизм, этот самый детерминизм обычно является абстрактной правдой, в том смысле, что он не имеет непосредственного, живого отношения к восприятию его собственных душевных процессов. Можно «на уровне ума» признавать, что твои психические процессы строго детерминированы и в то же время «на уровне сердца» отчаянно пытаться влиять на них тщетным усилием воли.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


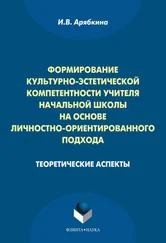
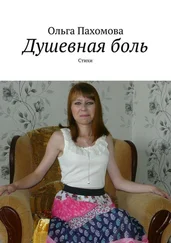


![Марк Сандомирский - Защита от стресса [Физиологически-ориентированный подход к решению психологических проблем (Метод РЕТРИ)]](/books/424168/mark-sandomirskij-zachita-ot-stressa-fiziologicheski-orientirovannyj-podhod-k-resheniyu-psihologicheskih-problem-metod-retri-thumb.webp)