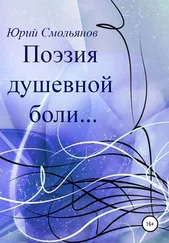Когда мы с вами говорили о позитивных и негативных пустых усилиях 1-го типа, мы отмечали, что тип пустого усилия, возникающий у конкретного человека зависит от его характерологического склада. Продуктивные пустые усилия первого типа характерны для реалистических характеров, негативные пустые усилия второго типа – для аутистических людей.
Знание всех этих особенностей, конечно, будет помогать в работе и нам, и пациентам, будет помогать нам находить пустые усилия – и свои, и чужие. На этапе привлечения характерологии после очередного развенчания собственного пустого усилия пациенту нужно обязательно задавать себе вопрос: «А не связано ли это мое попадание в ловушку ПУ с тем, что я пытался быть не-собой, здесь и сейчас стать другим, породить в себе чужие, не свойственные мне характерологические особенности?» Очень часто, наверное, в половине случаев ответ на этот вопрос будет положительным.
Вообще связь характерологии с пустыми усилиями – это большая и интересная тема, но в наши задачи здесь не входит говорить об этом подробно.
5) Изучение роли пустых усилий в личной истории.
Понятно, роль эта положительной быть не может по определению. Она всегда сугубо отрицательная. Даже если пустое усилие носит однозначно положительную нравственную направленность (например, «найти слова», чтобы уберечь ближнего от беды) – это то лучшее, которое (из-за своей нереализуемости) является врагом хорошего. Как мы уже говорили, пустое усилие всегда отнимает энергию, которая, не будь его, воплотилась бы в полезную деятельность. В поступки, быть может, не столь грандиозные, чем те, которые толкает рисует в воображении пустое усилие, но зато реальные.
Изучая вклад пустых усилий в личную историю, мы не ставим себе задачу найти их «исток». Например, выяснить кто, когда и каким образом, например, в раннем детстве заложил в человека то или иное нереализуемое стремление. Хотя такое исследование само по себе может быть интересным, информативным и многое объясняющим в личной истории человека, следует помнить, что таким образом склонность к пустому усилию не устранишь из души. С нашей точки зрения, склонность к пустому усилию является биологически или, если хотите, экзистенциально обусловленной, то есть заложенной в самих условиях человеческого существования. Поэтому, если бы «первое» пустое усилие не возникло бы в каких-то определенных детско-родительских отношениях, оно неминуемо возникло бы в какой-то другой коммуникации. Само по себе его возникновение неизбежно. И рано или поздно для него обязательно создались бы условия. Перефразируя тезис А.Эллиса об иррациональных суждениях, можно сказать, что не важно, где пациент впервые получил то или иное пустое усилие, важно то, что он до сих пор пытается его реализовать, опираясь (по определению) исключительно на свою собственную волю.
Тем не менее, осознание того, какой вред в жизни мы получаем от собственных пустых усилий, увеличивает мотивацию на контроль над ними, то есть на дальнейшее продвижение в терапии.
Итак, сочетание систематического применения МИВ с этими вспомогательными приемами существенно увеличивает эффективность систематического применения МИВ как такового. Конечно, это не какой-то застывший список, не полная и не единственно возможная аранжировка терапии. По–моему, тут есть большой потенциал для творчества.
Скажите пожалуйста, можно ли при изучении с пациентами пустых усилий в качестве иллюстративного материала использовать какие-либо художественные литературные произведения. То есть в каких литературных произведениях описаны пустые усилия?
Это хороший вопрос. Мы с вами видим, что пустые усилия – это очень частый феномен в человеческой жизни. Это явление, с которым связана львиная доля человеческого страдания вообще. И, казалось бы, такая вещь должна найти отражение в художественной литературе. Но…
Если вы и найдете более ли менее внятные описания пустых усилий в литературе, то это будет литература юмористическая.
В серьезной художественной литературе трудно встретить подробное описание пустых усилий.
Там может не быть даже намека на них, если это произведения про людей, не склонных к пустым усилиям. Или про особые состояния души (как в поэзии или, как например, в тех произведениях, которые я приводил для иллюстрации вдохновения–созерцания).
Или, бывает, мы сможем предположить по поведению героя, что пустые усилия в его переживаниях есть (например, герой суетится или, наоборот, его активность блокируется), но автор нам глубоко их не раскроет. Он не покажет нам, что герой пытается пойти туда, не знаю, куда. И понятно, почему. Серьезная литература, «сеющая разумное, доброе, вечное» – это как раз тот самый беспочвенный гуманизм, о котором мы говорили ранее. А он предполагает некий пафос, некое гуманистическое возвеличивание человека. А вскрывая пустые усилия, мы всегда с вами видим, что человек-то сплошь и рядом немощен. Во всяком случае, немощен по сравнению с тем, что он сам о себе воображает. До смешного немощен, но при этом, бедняга, тужится изо всех сил. Где уж тут человек, который «звучит гордо»? Думаю, если в серьезном произведении подробно описать пустое усилие, произведение превратится в юмористическое, а то в иронически–сатирическое. Во всяком случае, весь пафос потеряется, пиетет перед «глубокими переживаниями» сойдет на нет. Смысл серьезного литературного произведения тогда пропадает.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


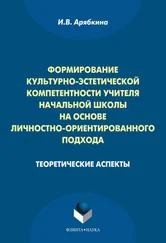
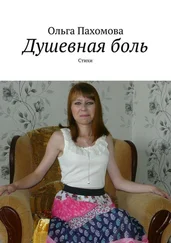


![Марк Сандомирский - Защита от стресса [Физиологически-ориентированный подход к решению психологических проблем (Метод РЕТРИ)]](/books/424168/mark-sandomirskij-zachita-ot-stressa-fiziologicheski-orientirovannyj-podhod-k-resheniyu-psihologicheskih-problem-metod-retri-thumb.webp)